Тем не менее, цели – своей, личной цели – Набоков таким образом до поры, до времени достигал, поддерживая оптимизм и радость жизни, без которых он не мог бы заниматься тем, что составляло смысл его жизни, было его призванием. «Не следует хаять наше время – утверждал он в завершающих строках “On Generalities”, – оно романтично в высшей степени, оно духовно прекрасно и физически удобно … будем по-язычески, по-божески наслаждаться нашим временем … и главным образом тем привкусом вечности, который был и будет во всяком веке».3362
Как нельзя кстати пришлось в поддержку Набокову изданное в 1923 году сочинение философа Г.А. Ландау «Сумерки Европы».3373 Иронически подыграв в названии «Закату Европы» О. Шпенглера, автор высветил «сумерки» как «героическую эпоху интенсивного творчества и самоопределения» и призвал продемонстрировать «духовное состояние поколения, дерзнувшего в безопорной среде опереться на себя – одинаково и в духовном, и в материальном смысле», предрекая, что следующие поколения «с восторгом и благоговением будут … вчитываться в летопись совершавшегося в наши дни».3383 Друг отца Набокова, после его гибели возглавивший редакцию «Руля», Ландау был хорошо знаком и с сыном и пользовался большой симпатией и уважением с его стороны. Воодушевляющее влияние Ландау оставило очень заметный и протяжённый во времени след в мировоззрении и творчестве Набокова, особенно в романе «Подвиг». Он же, возможно, угадывается среди прототипов двух вымышленных «умниц-философов в «Даре» – Германа Ланде и Делаланда.3391
А. Долинин замечает, что «с точки зрения наших сегодняшних исторических знаний … апология настоящего» у Набокова была «в чём-то близорукой».3402 Но близорукость – это отклонение от нормального зрения, пусть плохо различающее даль, но сохраняющее общую рамку и композицию картины. Зрение же Набокова, в силу «могучей сосредоточенности на собственной личности», предельно на ней и фокусировалось. Всё остальное существовало постольку, поскольку задевало творческое её предназначение.
До тех пор, пока Набоков мог вести в европейской эмиграции, по его словам, «несколько странную, но не лишённую приятности жизнь в вещественной нищете и духовной неге»,3413 битвы титанов апокалиптического жанра – Шпенглера, Бердяева и их последователей – хоть и будили в нём полемический задор и провоцировали протестные выплески, отражаясь также и в коллизиях и судьбах героев его произведений, но всерьёз повлиять на «солнечный» характер натуры не могли. Долинин, собственно, это и подмечает: «Набоковский изгнанник-наблюдатель … находится в ином измерении», связывая окружающее «только со своей собственной судьбой и внутренней потребностью в творчестве».3424
При всей пылкости и изобретательности, восторженной эйфории и разящей язвительности, при намеренно претенциозном, на английском, языке мировой науки, названии опуса, текст «On Generalities», по сути – запоздалый и вторичный по характеру отклик на философско-публицистическое эссе Ландау, изданное в 1923 году и оказавшееся единственным протестом, противостоявшим потоку мрачных и, как оказалось, более чем оправданных пророчеств. Кроме Набокова, поддержать Ландау оказалось некому. В запале схватки Набоков наотмашь бил противника полемикой высокого накала, но всерьёз её можно воспринимать лишь как отчаянную психологическую самозащиту – «розовые» очки гипертимика, до последнего стоявшего на баррикадах оптимизма.
Дальнейшее противостояние Набокова «дуре-истории», а заодно и её жертвам на литературном поприще на родине и в эмиграции, нашло подлинное выражение не столько в извержениях гейзеров публицистики, а в том, что герой «Дара», Фёдор Константинович Годунов-Чердынцев, «с какой-то радостной, гордой энергией, со страстным нетерпением уже искал создания чего-то нового, ещё неизвестного, настоящего, полностью отвечающего дару, который он как бремя чувствовал в себе».3435 Путь был найден. И он оказался успешным и устремлённым в вечность, как о том и мечтал Набоков.
«КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»:
ОТ РАССКАЗЧИКА И УЧЕНИКА – К УЧИТЕЛЮ И ВОЛШЕБНИКУ
В пятой, последней главе «Дара», герой, «возмужание дара» в себе уже ощутивший, и по этому поводу, «при новом свете жизни», преисполненный восторга и благодарности («И хочется благодарить, а благодарить некого»), не зная, «куда девать все эти подарки», готов их употребить немедленно для составления практического руководства: «Как быть Счастливым» (так в тексте, с заглавной буквы).3441 По мнению Бойда, «в каком-то смысле “Дар” и есть такое руководство».3452
Такая, звенящая счастьем, заявка на учительство – первая и, может быть, даже единственная в своём роде, в творчестве Набокова. И она даёт основание предполагать, что по отношению к «Дару» вся предшествующая ему череда романов воспринималась автором как по восходящей, но ученичество. Следует, однако, помнить, что этот ученик чуть ли не с трёх лет имел обыкновение заглядывать в конец учебника – в будущее «блистательное совершенство» прилежного ученика. И в зрелом возрасте заявлял, что «эти чары» не выдохлись и проявлялись всегда и во всём, чем бы он ни занимался.
Впрочем, первый его роман, «Машенька», был скорее предварительной прививкой от ностальгии, и читатели, поверившие, что сцены из эмигрантской жизни обещают стать магистральной темой Набокова, были разочарованы и обескуражены его обращением к чужой, «немецкой» почве и банальному треугольнику криминально-патологических страстей в следующем, втором романе «Король, дама, валет». Он был задуман летом 1927 года на пляжах Померании, в Бинце, где Набоковы пестовали двух подопечных мальчиков. Писать Набоков начал в январе 1928-го, к лету закончил чистовик, и в конце сентября роман был опубликован берлинским издательством «Слово».
Сорок лет спустя, в предисловии к американскому изданию, Набоков объяснил, почему ему тогда понадобился этот «лихой скакун»: «В стадии постепенного внутреннего высвобождения … независимость от всяких эмоциональных обязательств и сказочная свобода, свойственная незнакомой среде, соответствовали моим мечтам о чистом вымысле».3463
А что, собственно, стояло за мечтами о «чистом вымысле»? Вряд ли, как ссылается Набоков, всего лишь одно желание избавиться от признаков жанра «человеческого документа», которые он заметил за собой в «Машеньке».3474 И на что он собирался употребить «сказочную свободу» и независимость от всяких эмоциональных обязательств? Чем ему помешала «человеческая влажность», которой «пропитан» первый роман?3481 И каким образом «очевидный изъян» (условность немецкого фона романа) «может обернуться тонким защитным приёмом»? И почему Набоков, по его признанию, считал, что «слишком многим обязан своим ранним творениям»?3492
По-видимому, потому, что это была школа, самообучение, в которой всё нанизывалось на один стержень, всё вращалось вокруг одной оси: человек и его судьба. Второй роман Набокова – и первый в этой серии – своего рода полигон, макет, на котором он начал свои «упражнения в стрельбе»: разработку центральной для его творчества темы – темы судьбы, а в ней – и это главное – поиск сил и механизмов, ею управляющих. Для того и нужны были ему «чистый вымысел», «сказочная свобода» и независимость от эмоциональных обязательств, чтобы показать, что судьба человека прокладывает свой путь через случай, но в соответствии с исконно присущими данной конкретной личности индивидуальными характеристиками.
В отличие от истории человечества, в которой, как полагал Набоков, нет никаких детерминантов, а есть только хаотическое нагромождение случаев, в истории каждого отдельного человека случай может быть агентом судьбы. Детерминант здесь – только и исключительно личностные качества человека, получаемые им врождённо. Диапазон свободы выбора имеется, но он сугубо индивидуален, границы его определяются только на практике и оцениваются разве что задним числом, по результатам. Соответственно и случай – может быть воспринят индивидом или обойдён вниманием, использован так или иначе, но в конечном итоге, будь то грубым вмешательством фатума или хитроумными уловками, упорными повторными попытками или под видом причинности, но судьба телеологична и целенаправленно выпишет каждому свой неповторимый узор. Человек, в отличие от своих иномирных творцов, изначально и пожизненно заключён в двойную тюрьму: своего «я» и настоящего времени. Частичное преодоление этих ограничений возможно в редких случаях любви, доверия и взаимопонимания – с другим «я», а во времени – памятью о прошлом. Будущее непознаваемо и известно только незримым архитекторам судеб, свободным от человеческих параметров времени, – вечное и мучительное для Набокова ограничение, но и, с другой стороны, – это вызов, соблазнительное и интригующее приглашение к свободе выбора.
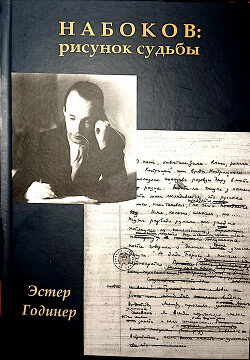



![Карочка - [email protected] - Наследники](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)