Желая встать над этими ограничениями если не в жизни, то хотя бы в творчестве (каковое и есть подлинная жизнь художника), Набоков стремился проникнуться тайнами действия судьбы, упражняясь на своих персонажах и моделируя такой образец, который мог бы стать подлинным Королём, оптимально чувствующим свою судьбу. Для присущей Набокову внутренней независимости, врождённой и предельно поощрённой воспитанием, ему нестерпимо было нахождение в какой бы то ни было иерархической структуре. Ему крайне трудно давалось сознание, что и он подвержен действию неких, стоящих над ним сил (отсюда и периодические демонстративные заявления о своём, якобы, атеизме). Альтернатива напрашивалась сама собой: создать свою иерархию и стать во главе её, научиться быть если не «неведомым игроком», то по меньшей мере «антропоморфным божеством», неукоснительно управляющим судьбами своих персонажей.
Какие бы, по выражению Набокова, «литературные сквозняки» признавал (или не признавал) он сам в этом романе, и как бы дотошно ни отслеживали их специалисты, дивясь играм автора с выворачиванием наизнанку известных стереотипов сюжетов и образов, – всё это было нужно ему не само по себе, а как подручный материал, адаптированный к главной цели: показать, как изобретательно и непредсказуемо для персонажей работает судьба, неумолимо ведомая её верховными вершителями.
Не заметить этот тир, в яблочко которого целился автор, казалось бы, невозможно. Тем не менее, из современников Набокова едва ли не один Г. Струве приблизился к пониманию, что в произведениях Сирина наличествует «композиционная радость» и «чувствуется творческая, направляющая и оформляющая воля автора».3501 В предисловии к американскому изданию Набоков не преминул язвительно заверить читателей, что редактируя книгу к переводу, он, разумеется, сохранил её «грубость» и «непристойность», «напугавшие моих самых доброжелательных критиков из эмигрантских журналов».3512
Какое «Король, дама, валет» может произвести впечатление, Набоков убедился, прочтя триста страниц ещё не законченного черновика своему юному ученику Владимиру Кожевникову, часто бывавшему тогда у них с Верой в доме: «Набоковых радовало то, что … он покрылся потом и часто дышал, когда слушал его чтение романа».3523 Впрочем, четыре года спустя, в 1932 году, Набоков писал Вере из Парижа: «Здесь почему-то все любят “К.Д.В.” Это забавно».3534 В Париже, по-видимому, читатели были постарше, и нервы у них были покрепче. Матери же в процессе сочинения романа он признавался: «Мне так скучно без русских в романе, что хотел было компенсировать себя вводом энтомолога, но вовремя, во чреве музы, убил его. Скука, конечно, неудачное слово: на самом деле я блаженствую в среде, которую создаю, но и устаю порядком».3541 Ещё бы не уставать – примеряться на роль самого Провидения!
Русских Набоков в роман не пустил по той же причине, по которой одновременно блаженствовал, уставал и пугал доброжелательных критиков «грубостью» и «непристойностью». Будучи не только писателем, но и учёным-натуралистом, Набоков знал, что процедура препарирования, в которой трудно обойтись, особенно неопытному препаратору, без «грубости» и «непристойности», требует корректных условий и, прежде всего, соответствия объекта эксперимента поставленной в нём задаче. Впервые поупражняться, да ещё в крупной, романной форме, в качестве распорядителя человеческих судеб означало, что он мог себе это позволить только на абстрактном материале неких условных «немцев», «нормально» живущих в своей «нормальной» стране, но никак не русских эмигрантов, живых, тёплых, родных, с судьбами, и без того необратимо искалеченными «дурой-историей». То, что могло показаться грубым по отношению к «немцам», с русскими было бы немыслимой вивисекцией.
И всё же один русский в тексте романа появляется, и это – сам автор. Во избежание сомнений, он описан с достоверной зримостью: «большелобый, с зализами на висках» иностранец и его очаровательная спутница «в сияющем синем платье», которой он улыбается; и оба они говорят «на совершенно непонятном языке».3552 В предисловии к американскому изданию Набоков скромно, в скобках, отмечает, что «мы с женой появляемся в двух последних главах только в порядке надзора»,3563 и там же, предвидя уличения в заимствовании фабулы, которая, «впрочем, небезызвестна», превентивно отбрасывает подобные подозрения, утверждая, что он «тогда ещё не читал их» – Бальзака и Драйзера – «потешной чепухи», и обвинять его в «бессовестном пародировании», следовательно, нет никаких оснований.3574
Оба заявления действительности не соответствуют. В последнем, на английском, варианте воспоминаний Набоков сообщает, что Стендаля, Бальзака и Золя он прочёл ещё в России, в совсем юном возрасте, но, в отличие от отца, их хорошо знавшего и любившего, полагал «презираемыми мною посредственностями».3585 Что же касается «Американской трагедии» Драйзера, то, как отмечает Бойд, «Набокова часто подводила память, когда речь шла о датах и последовательности событий; кроме того, из воспоминаний Сергея Каплана об их занятиях следует, что роман Драйзера, опубликованный в 1925 году, в 1926-м был уже хорошо знаком Набокову. Однако у Драйзера убийство, замаскированное под несчастный случай, совершается в результате цепи неумолимых детерминированных обстоятельств. Набоков ненавидел детерминизм, особенно в литературе, – отсюда его нелюбовь к трагедии… На этот раз он берёт тему детерминистского убийства и выворачивает её наизнанку».3591
Время зарождения романа и его созревание не случайно пришлись на 1927 год, когда Набоков яростно отбивался в публицистических битвах от сторонников идеи причинно-следственного хода истории. Тем более нестерпимо было ему навязывание той же логики в индивидуальной истории – судьбе человека.
«Король, дама, валет» – и в самом деле полемический «лихой скакун», сочинённый в ответ на роман Драйзера, а Драйзер и Драйер (главный герой романа Набокова) – слишком похоже, чтобы быть простым совпадением. Чуткому уху Набокова могло изрядно надоесть постоянно слышимое вокруг зудящее «зе» в бесконечных обсуждениях марксизма, фрейдизма, дарвинизма и прочих ненавистных ему «-измов». Вот он и прихлопнул его как назойливого комара. Заодно экономно и изящно придумав имя своему, антиподному Драйзеру, герою. Недоказуемо, но возможно.
Так или иначе, но избавив Драйера от детерминизма, предполагающего объективное, рациональное, причинно-следственное понимание окружающей действительности и самого себя, и назначив его не каким-либо праздно размышляющим философом или историком, а преуспевающим коммерсантом, Набоков, как бы в насмешку, продемонстрировал, на заведомо как будто бы неподходящем для этого типаже, действие других сил – сил судьбы, проявляющих себя через случай и в соответствии с особенностями характера индивида. И если судьба грозит Драйеру настоящими, подлинными бедами и даже угрозой самой жизни, то не от конъюнктуры рынка или деловых просчётов – это обратимо, – а от творческой недовоплощённости и от поверхностного отношения к тому, что кажется ему банальным и простым.
И не потому Драйер «случайный, ненастоящий» коммерсант, как и сам он это чувствует, что ищет «в торговых делах» прежде всего игру, творческий процесс, а не только результат, прибыль. Это-то как раз свойственно настоящим, по призванию, деловым людям. Просто это не сфера оптимального приложения его талантов, его подлинной, полной самореализации. Драйер ещё не нашёл того. что ему нужно, – его творческий потенциал буквально взывает к нему: ему хочется путешествовать по всему миру, «искать то летучее, обольстительное, разноцветное нечто, что он бы мог найти во всякой отрасли жизни. Часто ему рисовалась жизнь, полная приключений и путешествий, яхта, складная палатка, пробковый шлем, Китай, Египет, экспресс ... вилла на Ривьере для Марты, а для него музеи, развалины, дружба со знаменитым путешественником, охота в тропической чаще. Что он видел до сих пор? Так мало... Есть столько книг, которых он не может даже вообразить».3601
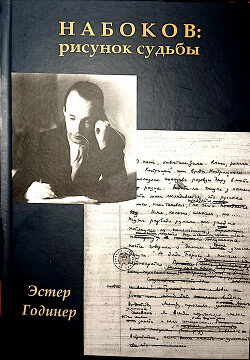



![Карочка - [email protected] - Наследники](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)