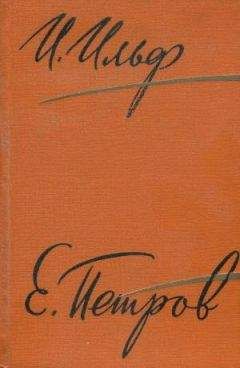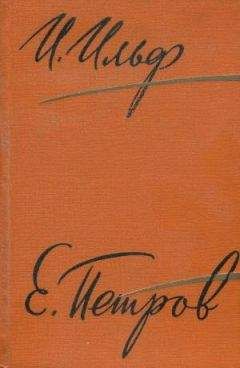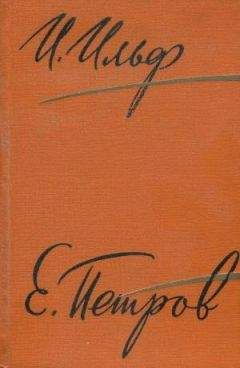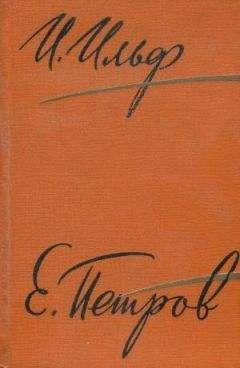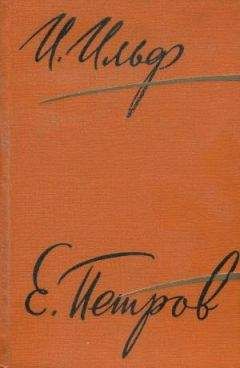Белого, но, во всяком случае, он и в досоветскую эпоху не чурался злободневности, «модных» тем. Например, после разоблачения Е.Ф. Азефа многие писали о революционном терроре, о полицейских провокациях, проблема связи этих явлений постоянно обсуждалась в периодике, и вот герои романа «Петербург», начатого в 1911 году, стали жертвами террора и провокации [141]. А герои «Москвы» стали жертвами шпионажа — тоже ведь тема из постоянно обсуждавшихся.
Что касается Ильфа и Петрова, то они, осмеивая «шпионскую» линию романа «Москва», вовсе не фрондировали, а шутили, не выходя «за пределы дозволенного». В условиях советского социума это означало соотнесение шуток с конкретными политическими установками, анализ которых и позволяет понять, почему вначале авторы сочли возможным пародировать Белого и почему впоследствии решили от пародии отказаться.
Шла борьба с левой оппозицией, обвинявшей партийное руководство в отказе от «мировой революции» и тем самым в создании объективных условий для «империалистической агрессии». Напротив того, весь роман «Двенадцать стульев» — развернутое доказательство прочности советского режима.
Белый же в романе «Москва», где одной из основных сюжетных линий были интриги шпионов против России, а в перспективе — СССР, словно бы умышленно игнорировал перипетии партийной борьбы 1927 года. Безусловно, сторонником Троцкого Белый не был. Троцкий в 1923 году жестко критиковал Белого как писателя, советскому обществу чуждого, и даже «пугал» возможностью сходства с ним тех, кто, подобно Б.А. Пильняку, например, мог бы еще стать полезным режиму [142]. Тогда суждения Троцкого воспринимались как директивные, и Белый имел веские причины заявить пять лет спустя, что его буквально уложили в «могилу» Троцкий, «за ним последователи Троцкого, за ними все критики и все “истинно живые” писатели» [143].
Как образчик критики произведений Белого с позиций «истинно живых» можно привести отзыв Г.Е. Горбачева о «Москве». Вначале — обобщение: «И еще об одной категории: rallies. Этот термин из французской политики и означает присоединившихся. Так назвали бывших роялистов, примирившихся с республикой. Они отказались от борьбы за короля, даже от надежд на него и лояльно перевели свой роялизм на республиканский язык. Вряд ли кто-нибудь из них написал бы “Марсельезу”, даже если бы она не была написана раньше. Сомнительно также, чтобы они с энтузиазмом пели ее строфы против тиранов. Но присоединившиеся живут и дают жить другим. Таких rallies немало среди нынешних поэтов, художников, актеров. Они не клевещут, не проклинают, приемлют, но, так сказать, в общих чертах и “не беря на себя ответственности”, — где следует, дипломатично молчат или лояльно обходят, а в общем претерпевают и принимают, что называется, посильное участие… Таких rallies мы находим всюду, даже в портретной живописи: пишут “советские” портреты и пишут иногда большие художники. Опыт, техника — все налицо, только вот портреты не похожи. Почему бы? Потому что у художника нет внутреннего интереса к тому, кого он пишет, нет духовного сродства и “изображает” он русского или немецкого большевика, как писал в академии графин или брюкву, а пожалуй, и того нейтральнее». Затем от имени прочих «критиков-марксистов» Горбачев заявляет, что «трактовка Белым причин, деятелей и “питательной среды” надвигающейся революции» наивна, что «в чуждом нам плане развиваются основные — целиком порожденные прошлым бытом и отжившей культурой ассоциации Белого, на которых основана сложная стилистическая и лексическая вязь его романа». И вообще, «как ни ярко порою свидетельствует о сдвигах, произведенных революцией в сознании автора, “Москва” А. Белого, как ни велики местами утонченное мастерство его письма и сила изобразительности, — для читателя запоздалыми являются “открытия” Белого вроде того, что наука в буржуазном обществе зависит от корыстных интересов имущих и правящих, что буржуазное и мелкобуржуазное индивидуалистическое сознание зашло перед революцией в тупик», «Москва» — «роман для нас исторический, причем история дана в аспекте хотя и пореволюционного сознания, но сознания, повторяющего зады передовой современной мысли, путающегося в пережитках мистицизма, индивидуализма и обывательского житейского опыта» [144].
Ситуация была вдвойне пикантной: сначала на Белого нападал Троцкий, а потом, при полемике с Троцким, досталось опять же Белому.
Ильф и Петров — литераторы без «прошлого», их писательский статус целиком зависел от сохранения режима. Имея опыт работы в газете, они, в отличие от автора «Москвы», профессионально владели эзоповым языком партийной полемики, были обучены искать и находить конкретных адресатов, казалось бы, абстрактных инвектив. Потому авторы «Двенадцати стульев» и сумели высмеять Белого, противопоставив его себе, приписав мэтру натужный энтузиазм и угрюмую дидактичность профана, а себе — основанную на спокойной уверенности в будущем иронию и проницательность «истинно живых». Так сложились обстоятельства.
В 1928 году обстоятельства складывались уже по-иному: полемика с троцкистами утратила злободневность, и теперь Бухарин числился в опаснейших оппозиционерах — правых уклонистах. А в полемике с правыми уклонистами официальная пропаганда вновь актуализовала модель «осажденная крепость». Иронические пассажи по поводу «мировой революции», «империалистической агрессии», шпионажа и т. п. теперь выглядели совсем иначе. Ильф и Петров реагировали на новшества достаточно оперативно: глава о «золотоискателях», как уже отмечалось, была исключена начиная с 1929 года из всех изданий романа.
Б.Е. Галанов, автор текстологического очерка о «Двенадцати стульях», включенного в собрание сочинений Ильфа и Петрова и многократно — вплоть до 1994 года — переиздававшегося, утверждает, что «золотоискательские» эпизоды оказались избыточными: «Они были в рукописи, в журнале, в первом издании книги. Почему же в таком случае они не выдержали строгой проверки при подготовке второго издания романа? По-видимому, писатели нашли, что рассказы о невежественных халтурщиках заняли много места в “Двенадцати стульях” и порой начали даже повторять друг друга» [145].
Это нельзя признать убедительным. Почему, например, авторы за два года не «нашли», что «рассказы о невежественных халтурщиках заняли много места», а на третий год у них словно бы глаза открылись? Аргументация отсутствует — «эстетическое» объяснение предложено в качестве самоочевидного. Однако мы полагаем, что глава о «золотоискателях» изначально была и остается весьма важным элементом романа. И для того, чтобы изъять пародию на «Москву» Белого, потребовались веские причины.
Вопросы пола
Маяковскому в «литературно-театральном обзоре» Москвы досталось чуть ли не больше всех, причем, за редким исключением, шутки Ильфа и Петрова в адрес автора «октябрьской поэмы» были пропущены цензурой при переизданиях. Пародия на Андрея Белого была известна современникам хотя бы по журнальному варианту и первому книжному изданию. А вот ряд иронических пассажей в адрес других тогдашних знаменитостей был изъят еще на стадии редактирования рукописи для журнала.
В главе «Среди океана стульев» впервые появляется «модный писатель Агафон Шахов»: «К Дому Народов подъехал на извозчике модный писатель Агафон Шахов. Стенной спиртовой термометр показывал 18 градусов тепла, на Шахове было мохнатое демисезонное пальто,