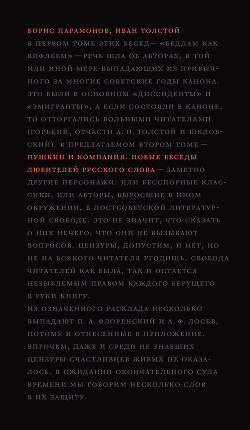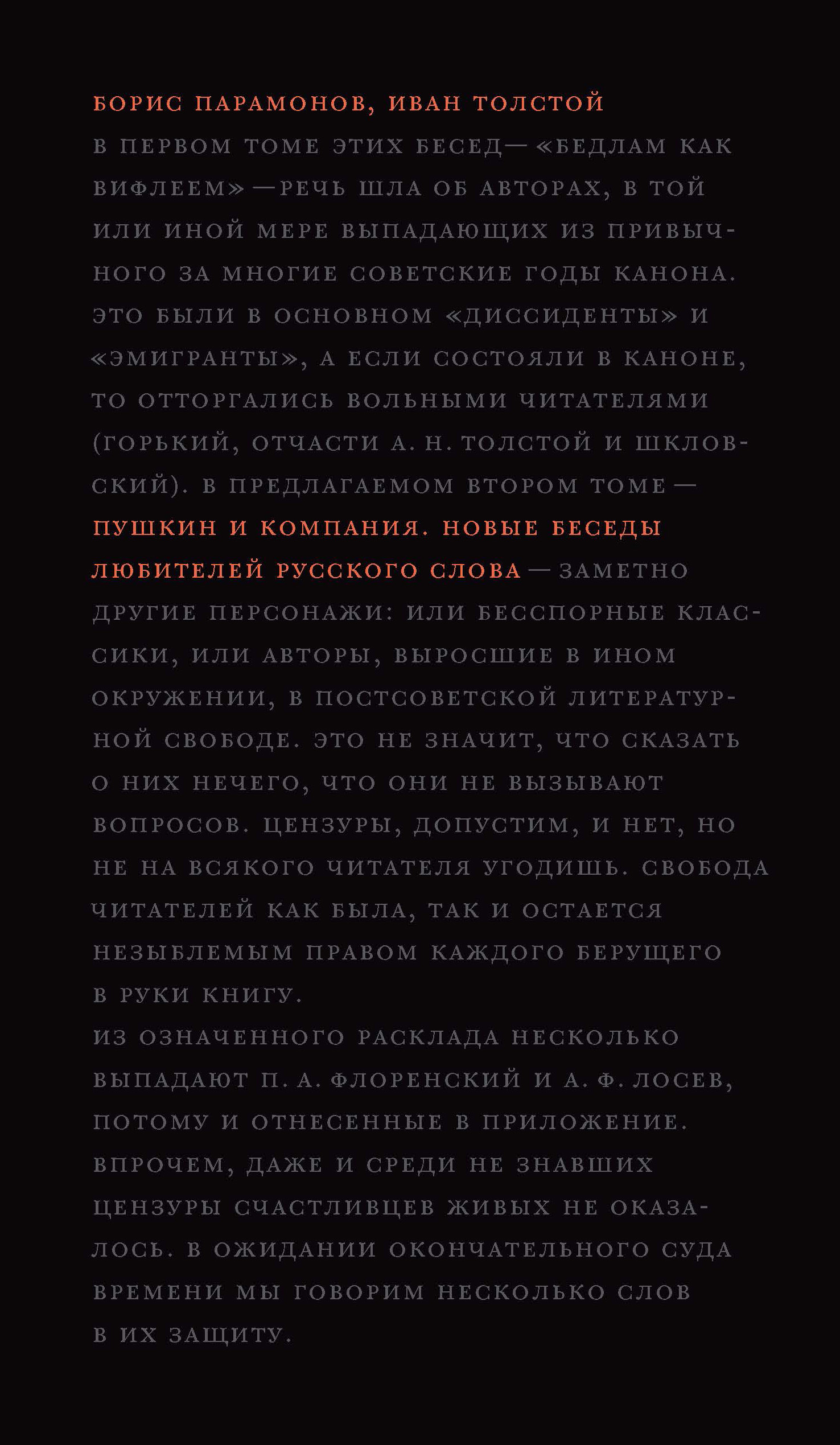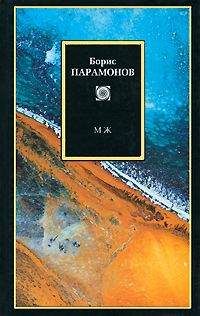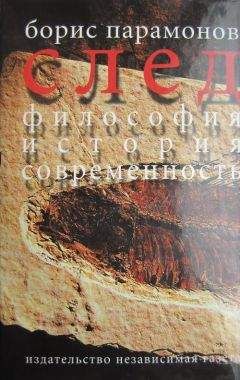Но не будем за этими разговорами забывать о литературе. Вопрос: в каком отношении стоит Пушкин к последующей литературе? Допустим, он ее отец; но отцы и дети могут ведь быть весьма разными, детям свойственно бунтовать против отцов. И вот: был ли в послепушкинской литературе бунт против Пушкина? Об этом написал основополагающую, как мне кажется, статью Д. С. Мережковский.
Две главные темы выделяет у Пушкина Мережковский: это антитеза природного и культурного человека и, вторая, конфликт героя-творца и стихии. Поэзия Пушкина, говорит Мережковский, – редкое в мировой культуре сочетание двух начал: самоотречения и Прометеева духа. Таким образом гармонизируются обе его главные темы: если в столкновении культуры с природой Пушкин готов стать на сторону природного человека, старого цыгана против Алеко, то в конфликте со стихией он на стороне героя – заклинателя стихий. Культура против природы принимается Пушкиным тогда, когда ее, культуру, персонифицирует творец, художник; это и есть для него единственно приемлемый культурный герой. Мережковский пишет:
Пушкин, как галилеянин, противополагает первобытного человека современной культуре. Той же современной культуре, основанной на власти черни, на демократическом понятии равенства и большинства голосов, противополагает он, как язычник, самовластную волю единого творца или разрушителя, артиста или героя. Полубог и укрощаемая им стихия – таков второй главный мотив пушкинской поэзии.
Галилеянин, напомню, значит христианин (иногда даже сам Христос). В Пушкине, таким образом, Мережковский выделяет два начала – христианское и языческое, и видит их примиренными, слитыми в высшем синтезе. И вот этот синтез, настаивает Мережковский, начисто утратила последующая, послепушкинская русская литература, даже не утратила, а сознательно от него отошла, отказалась. Мережковский далее:
Вся русская литература после Пушкина будет демократическим и галилейским восстанием на того гиганта, который «над бездной Россию вздернул на дыбы». Все великие русские писатели, не только явные мистики – Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, но даже Тургенев и Гончаров – по наружности западники, по существу такие же враги культуры, – будут звать Россию прочь от единственного русского героя и неразгаданного любимца Пушкина, вечно одинокого исполина на обледенелой глыбе финского гранита, – будут звать назад – к материнскому лону русской земли, согретой русским солнцем, к смирению в Боге, к простоте сердца великого народа-пахаря, в уютную горницу старосветских помещиков, к дикому обрыву над родимою Волгой, к затишью дворянских гнезд, к серафической улыбке Идиота, к блаженному «неделанию» Ясной Поляны, – и все они, все до единого, быть может, сами того не зная, подхватят этот вызов малых великому, этот богохульный крик возмутившейся черни: «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!»
В чем Мережковский безусловно прав, утверждая противоположность Пушкина его литературным потомкам? В том, что послепушкинская литература была демократической, была народной, даже лучше сказать народнической, а Пушкин очень хорошо чувствовал опасность такой позиции: он ведь написал «Капитанскую дочку». И никакое пугачевское преступное обаяние («бандитский шик», как сказал бы Мандельштам) не могло склонить его к народническому мифу. Проще сказать, он не был демократом, не верил, что народу дорога свобода: совсем наоборот.
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды…
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
Полагаю, что молодой Б. М. Энгельгардт в своей трактовке «Медного всадника» шел из цитированного текста Мережковского.
И. Т.: Но у Мережковского получается, что русская литература как раз и виновна в этом антикультур-ном бунте черни, она его вызывала и заранее одобряла.
Б. П.: Да, конечно, так и получается. И вот что еще в тему следует добавить. Я напал в сети на работу Б. Н. Пойзнера из Томского университета «Дух народа: Шпет о Пушкине». Густав Густавович Шпет – философ-гуссерлианец, репрессированный, натурально, большевиками и сгинувший в ГУЛАГе. В советское время Шпет успел издать «Очерк истории русской философии» – чрезвычайно острое сочинение, разрушившее много предшествующих и последующих русских культурных мифов.
И. Т.: Поначалу Шпет был выслан в Томск, университетский город, между прочим. И даже работа ему была дана по специальности: заказан перевод гегелевской «Феноменологии духа».
Б. П.: Интересно, как большевики в одном месте отредактировали его перевод. Главу «Абсолютная свобода и террор», в которой у Гегеля речь шла о Французской революции, переименовали – «Абсолютная свобода и ужас».
И. Т.: По словарю, действительно так: террор и есть ужас.
Б. П.: Да, но понятие «террор» приобрело самостоятельное значение как характеристика соответствующего политического режима. Понятно, что слово «террор» в этом смысле уже не нравилось большевикам: в доме повешенного не говорят о веревке. Впрочем, следует помнить, что и у Пушкина в одной его ненапечатанной статье – «Александр Радищев» – также было употреблено это слово в его первоначальном, словарном значении. Это ставший очень значимым текст, хотя, повторяю, статья первоначально не была пропущена цензурой.
Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время Ужаса? Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды львиным рыком Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра.
Пушкин написал слово «ужас» с прописной и выделил его курсивом.
Возвращаемся к Шпету. Исследователь извлек это высказывание о Пушкине из частной переписки философа. То есть мы имеем дело с сугубо искренним мнением, без оглядки на внешние инстанции: что думал, то и сказал. В открытой печати тогда уже немногое сказать было можно.
И получилось у Шпета полное совпадение с Мережковским. С одним интересным нюансом: Мережковский подает Пушкина как некоего одинокого гиганта, против которого пошла вся последующая литература, а Шпет видит возле Пушкина определенный культурный круг, уже в его время существовавший. Это – литераторы-аристократы.
Где в нем (в Пушкине) русский дух? Его творчество есть именно его творчество – гения, не выросшего из русского духа, а лишь воспринимавшего в себя этот дух, и что бы он сказал бы, если бы воспринял его до конца? <…> Карамзин, Жуковский, Пушкин, кн. Вяземский и все пушкинское было единственною возможностью для нас положительной, не нигилистической культуры. Эта вот «литературная аристократия» была возможностью иной интеллигенции.
Узнаете здесь также мотив Федотова? Фиксируется и закрепляется в памяти факт существования в пушкинское время аристократической культуры, в целом противоположной тому, что появилось позже, во времена демократического перерождения русской культуры и литературы.