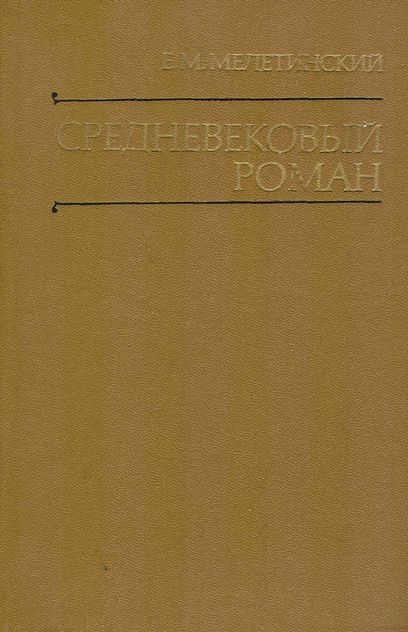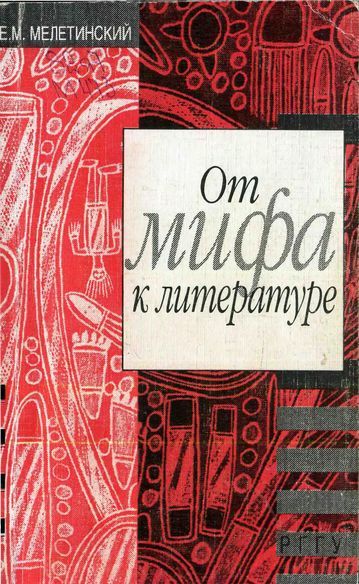традиции), сказочная история об Аполлонии Тирском, фантастические истории Антония Диогена и Ямвлиха, языческое «житие» философа-пифагорейца Аполлония Тианского и др., выделяется четкая категория подлинных романов любовного содержания (Харитона, Ксенофонта Эфесского, Ахилла Татия, Лонга, Гелиодора). Группа эта не имеет одного устоявшегося жанрового обозначения (разные термины группируются вокруг представления о «повествовании» или о «драматическом деиствовании»), но обладает строго определенной сюжетной схемой (не знавшие или не желающие знать любви красивые юноша и девушка благородного происхождения влюбляются друг в друга и обручаются или вместе убегают от родителей, странствуют, подвергаясь различным превратностям и искушениям, сохраняя большей частью свое целомудрие, теряют и вновь обретают друга. Друга для счастливого брака) и набором клишированных мотивов (кораблекрушения, похищение пиратами или разбойниками, любовные покушения со стороны третьих лиц, продажа в рабство, попытка принести героиню в жертву, мнимая смерть, судебное разбирательство, узнавание). Действие практически сводится к внешним превратностям, выражающим игру случая II власть судьбы (Тихе). Исключение составляет только «Дафнис и Хлоя» Лонга, где внешние превратности оттеснены пастушеской идиллией и описанием пробуждения любовных эмоций. Географическая и особенно историческая среда подается как нейтральный фон. Однако в папирусных фрагментах самих древних романов (о царевиче Нине, о Хионе и др.) фигурируют исторические лица и квазиисторические мотивы, откуда можно сделать вывод о некоем первоначальном синкретизме с квази-историческими повествованиями (типа истории Александра Македонского) и постепенном выделении любовного романа, лишенного исторических мотивов.
В отношении генезиса греческого романа существуют многочисленные теории, интерпретирующие его как трансформацию или синтез различных ранее существовавших «жанров»: эллинистической любовной поэзии, путешествий и риторики периода второй софистики (Э. Роде), трагедий Еврипида, новой комедии, идиллии и школьной риторики (А. И. Кирпичников, отчасти И. И. Толстой), новеллистики (Г. Тиле), историографии (В. Шмид, 3. Шварц, Т. Синко, И. Людвиковский), элегий (Д. Джангранде), местных легенд и культовых преданий (Р. Лаваньини), ареталогии (Р. Райценштейн), мифов об Осирисе (К. Керени), тайных культов Диониса, Исиды, Митры (Р. Меркельбах, отчасти Г, Чок), мифологизированной буколики (О. Шенбергер), риторики, особенно риторических контро-версий (Б. А. Грифцов) и т. д. (см. подробный обзор теорий: Античный роман, 1969, с. 7—31, 365—401). Упадок патриотических идеалов античного полиса, космополитизм и религиозно-философский синкретизм с восточными традициями, поворот интереса в сторону частной жизни и переживаний отдельной личности были, как известно, общими чертами литературы эллинистического периода. Но эти черты, кроме всего прочего, способствовали вырождению классического героического, эпоса (ср. «Аргонавтику» Аполлония Родосского с гомеровским эпосом) и появлению самых ранних форм романа.
Для формирования романа несомненно большое значение имели эллинистическая любовная поэзия, элегическая и идиллическая, т. е. с сильным лиро-эпическим элементом (как увидим в дальнейшем, лирика была необходимой предпосылкой и для развития средневекового романа), новая комедия, псевдоисторические повествования, легенды и мифы, возможно, и негреческие, восточные сюжеты. Все эти источники вошли в роман в переработанном виде. В процессе их переработки, безусловно, широко использовались риторические приемы, причем задолго до появления так называемой второй софистики.
Следует подчеркнуть, что из мифов в качестве модели для «страстей» героев романа использованы не героические мифы, а мифы об умирающих и воскресающих богах, выступающих в роли пассивных культовых жертв (отсюда, возможно, и такие мотивы, как принесение героини в жертву, мнимая смерть, целомудрие, которое часто требуется от ритуальной жертвы, и др.). Мотив странствий не обязательно восходит к «географическим» повествованиям (как считает Э. Роде). Совпадение странствий и жизненного пути героя, своеобразная спатиализация его биографии широко встречается в мифах и сказках. Не случайно в числе источников греческого романа очень редко упоминается героический эпос; греческий роман формировался не путем трансформации героического эпоса; он создавался на другом полюсе, из иных жанровых истоков и отчасти поэтому противостоит эпосу, не пересекаясь с ним (в этом, как потом увидим, одно из отличий его от романа рыцарского).
Отношения его с эпосом противоположны (контрарны), но не противоречивы (контрадикторны), дополнительны, но только в «комплементарном» смысле. В греческом героическом мифе и героическом эпосе герой активный и наступающий, а в романе — пассивный и обороняющийся, в эпосе деятельность героя субстанционально связана с коллективной судьбой рода, племени, города и т. п., а в романе его индивидуальная судьба атомистически от всего изолирована и сама по себе представляет для читателя главный и, можно сказать, единственный интерес. В этом смысле греческий роман уже есть повествование о частной жизни в чистом виде, не ставящее себе общеэпических целей. М. М. Бахтин правильно характеризует героя греческого романа как частного, приватного человека в абстрактном чужом мире, где он проходит известное испытание, доказывая свою неизменность, тождество с самим собой. Основной комплекс мотивов (встреча — разлука — поиски — обретение) является, по мнению М. М. Бахтина, отраженным сюжетным выражением того же человеческого тождества (Бахтин, 1975, с. 236—261). К этому можно добавить, что испытание героя имеет место также в героическом эпосе и в сказке и что «претерпевание» героя греческого романа в отличие от эпоса, сказки и средневекового рыцарского романа имеет особенно пассивный, страдательно-жертвенный характер, что нигде человек не представлен до такой степени игралищем случая и судьбы. Правда, эта относительная беспомощность героя греческого романа компенсируется отчасти его стойкостью к несчастьям, а также обязательным счастливым поворотом судьбы, обеспечивающим, как в сказке, счастливый конец.
Греческий роман целиком отворачивается от сверхчеловеческого героического начала и коллективных судеб ради обычного человека и его личной судьбы, однако делает лишь самый первый шаг в сторону художественного исследования внутренней жизни человека. В этом смысле он не слишком далеко уходит от обычной сказки: часто встречающиеся в научных работах (см., например: Античный роман, 1969) рассуждения о психологизме греческого романа следует отвергнуть как недопустимую модернизацию. Даже в «Дафнисе и Хлое» Лонга в качестве «внутренней» жизни героев открываются главным образом родовые по своей сути эротические эмоции физически развивающихся молодых существ. И в других романах речь идет о самом факте пробуждения дотоле дремавших любовных страстей, направленных на индивидуальные объекты, но сугубо родовых по своей исконной природе, ни в малейшей степени не отражающих индивидуальность героев. Открытие частной жизни повествовательной литературой (в лирике это открытие сделано еще раньше) не сразу становится открытием внутреннего мира человека.
Традиция греческого любовного романа была прервана почти на целое тысячелетие, но в XII в. в атмосфере подъема в Византии антикизирующей светской культуры (так называемое византийское возрождение, которое никоим образом не следует смешивать с западноевропейским Ренессансом XIV—XVI вв.) был создан ряд любовных романов, ориентированных на «Левкиппу и Клитофонта» Ахилла Татия и на «Эфиопику» Гелиодора как на основные образцы. Эти авторы сохраняли популярность до XII в. и привлекали не только своей художественностью;