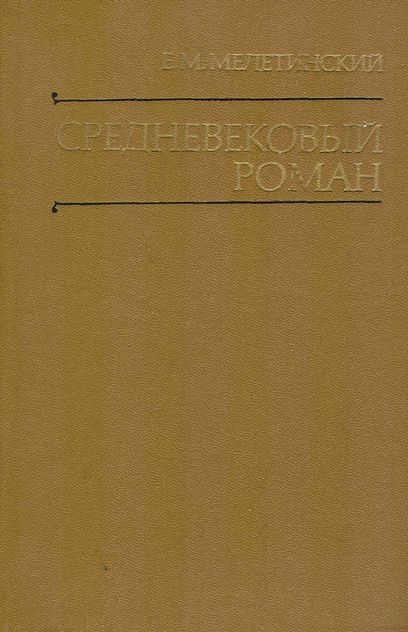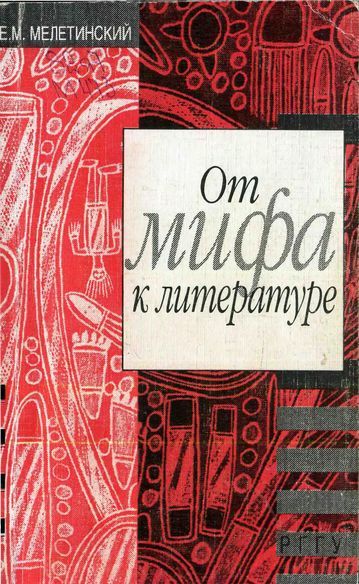Затем некоторые сцены в конце романа нарочито симметричны сценам в начале романа: то же описание праздника и хождения праздничных делегаций из одного города и другой, только в начале романа вестником является сам Неминий, а в конце — его хозяин, у которого герой находится на положении раба. Исмина теперь прислуживает на пиру, как рабыня Родопы, а Родопа заигрывает с Исминием, как раньше то делала Исмина. Наконец, заключительные рассказы Исминия и Исмины родителям снова как бы повторяют пройденное.
Эта система повторений ситуаций с некоторыми изменениями ракурса, с усилением или ослаблением эмоционального напряжения — важнейшая особенность структуры романа Евмагфия. Она обнажает главный объект художественного исследования, каковым является уже не судьба-мучительница, а, разпитие любовного чувства, показанное, правда, со стороны его ннешних проявлений как подчинение силе Эрота, как насланная Эротом любовная боль. В указанной системе повторений большую роль играет аллегорическое описание торжества Эрота, символ райского «сада любви» и т. п., но это не значит, что роман об Исминии и Исмине сводится к аллегории. Вряд ли плотская любовь здесь является знаком любви божественной. Если в описании сада любви и есть намек на представление самой Исмины «садом» и ассоциация с библейской «Песнью песней», то отсюда вовсе не обязательно следует благочестивое символическое истолкование библейского мотива. Языческий образ бога любви Эрота и архетипически обнаженная эротическая символика служат, по-видимому, выражению как раз духовных начал эмансипирующегося мира личности. Чувственная (но целомудренная) любовь героев романа является предметом идеализации в неоплатоническом духе, как это свойственно любовной литературе средневековья. Все это не исключает предполагаемого С. В. Поляковой влияния романа Евмафия на «Роман о Розе», вообще на французскую и немецкую аллегорическую поэзию.
Изображение роковой силы любви, описание проявлений пробуждающейся любовной эмоции, даже идиллия «любовного» сада — все эти элементы до «Романа о Розе» отчетливо проявились во французском куртуазном романе. С. В. Полякова считает предкуртуазной чертой у Евмафия и метафору любви как рабского служения (Полякова, 1979, с. 160). Мне бы хотелось отметить еще одну черту — совершенно чуждый античному роману и столь характерный для средневекового мотив конфликта любви и долга, который находим слегка намеченным в «Исминии и Исмине». Исминии прибывает в Авликомид в качестве вестника празднеств в честь Зевса, а здесь, влюбившись в Исмину, становится жертвой и «рабом» Эрота. Только что гордый своей гражданской миссией, Исминий теперь в ужасе от того, что возвращение на праздник в родной город может оторвать его от Исмины. Зевс и Эрот всячески противопоставляются в этой связи: «Вестником Диасий пришел я из Еврикомида, вестником Афродисий пойду из Авликомида; лавром тогда, розами нынче венчаю я голову» (Исминий и Исмина, пер. Петровского, с. 56).
«Из-за тебя променял Зевса-филия на тирана Эрота», — восклицает герой, обращаясь к возлюбленной (там же, с. 72), и заявляет: «Ничего для меня не значат ни родина, ни отец, ни мать» (там же, с. 73), а немного далее: «Любовь будет нам родиной, родителями, богатством, пищей, питьем и одеждой» (там же, с. 76).
Если у Ахилла Татия речь шла только о нарушении Клитофонтом сыновней покорности, то здесь речь идет о забвении родины и долга — черта, характерная как раз для средневекового романа, который в отличие от античного претендует на сохранение героико-эпического начала. Зевс, конечно, воплощает не «целомудренное» начало, как считает С. В, Полякова (Полякова, 1979, с. 72), а именно гражданское.
Романы Феодора Продрома и Никиты Евгениана, как уже упомянуто, больше ориентированы на Гелиодора, чем на Ахилла Татия; сюжеты их, однако, достаточно близки к истории Исмины — Исминия и очень сходны между собой. Герои тоже бегут вместе морем. Роданфа и Досикл попадают к пиратам, а Дросилла и Харикл — после разграбления пиратами корабля — к парфянам, а затем к арабам. В Роданфу влюбляется сподвижник вождя пиратов Мистиал, а в Дросиллу — Клиний, сын вождя парфян Кратила, тогда как жена последнего влюбляется в Харикла (подобно тому как у Евмафия в Исминия влюбляется Родопа) и т. п. Заслуживает быть упомянутым, что в романе Никиты Евгениана влюбленные встречаются на празднике Диониса (у Феодора Продрома — просто по дороге в баню), Дионис как бы выступает их покровителем, ритуальная атмосфера всячески обыгрывается. Любопытно, что линия второй пары в романе Никиты Евгениана (Клеандр и Каллигона) кончается трагически, что нехарактерно для античного романа. Подробности сюжета в этих романах также особой роли не играют, и не сюжетный уровень — главный. С этой точки зрения любопытна беглая формулировка сюжета перед началом повествования Никиты Евгениана: Дросиллы и Харикла здесь содержатся побег, скитания, бури, грабежи и плен.
Враги, тюрьма, пираты, голод и нужда,
Темницы мрак ужасный, даже солнечным
Лучам в нее проникнуть запрещающий,
Ошейник из железа крепко скованный,
Разлуки тяжелой горе нетерпимое,
Но после всё же бракосочетание.
(Дросилла и Харикл, пер. Петровского, с. В)
Приведенная формулировка сюжета выделяет мотивы клише. Роман Феодора Продрома уже является стихотворным, но в нем еще преобладают риторические фигуры и книжные реминисценции, а у Никиты Евгениана торжествует лирическая стихия при сохранении и некоторых риторических элементов (об этом переходе см.: Алексидзе, 1969, с. 132—133). Лирическая стихия у Никиты Евгениана отчетливо обнаруживает связь с жанровыми фольклорно-ритуальными традициями: приводятся не только любовные монологи, но и многочисленные заплачки и песни, часто с характерными рефренами вроде: «Каким огнем, Дросилла, жжешь ты Клиния» (Дросилла и Харикл, пер. Петровского, с. 48). Немало говорится в романе о власти Эрота (например, «не хочет медлить ведь Эрот неистовый» — там же, с. 29), но в атмосфере дионисийской праздничности подчеркивается не только сила бога любви, но и иррациональная ее природа. Лиризм, так же как изображение любви в качестве болезни, — черта, характерная для средневекового романа.
Роман Никиты Евгениана вплотную подводит византийский любовный роман XII в. к византийскому рыцарскому роману XIII в. с его сильными фольклорными элементами и следами западных «рыцарских» веяний. Рассмотрение этого «народного» рыцарского византийского романа, однако, выходит за хронологические рамки нашей работы. Отсылаем читателя к содержательной специальной монографии А. Д. Алексидзе (Алексидзе, 1979). Поскольку греческий роман — первая отчетливая форма романа, то естественно возникает вопрос о роли этой формы для средневековой литературы, причем не только для византийского романа, служившего его непосредственным продолжением. Для Ближнего и Среднего Востока вопрос этот осложняется фактом взаимовлияния греческого романа и восточных традиций и трудностью уточнения восточных элементов в самом греческом романе (главным образом этнографические и религиозные моменты).
П. А. Гринцер, известный