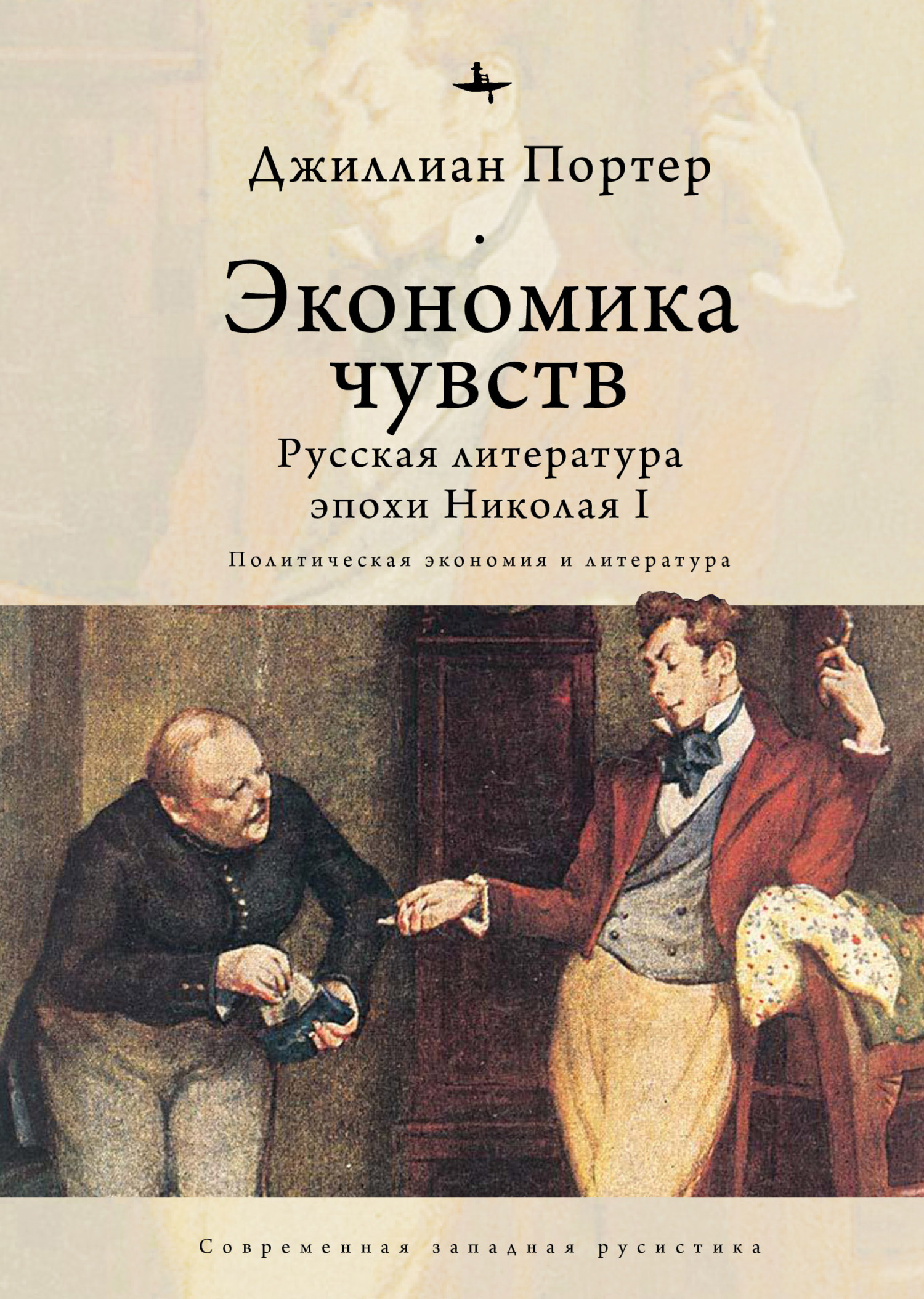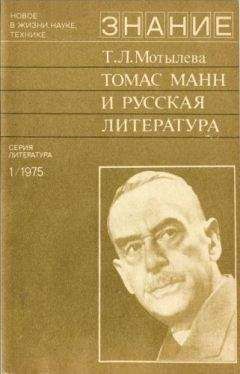езды в нанятой двойником карете, из которой тот пытается его выкинуть, Голядкин покорно платит кучеру, прежде чем преследовать своего антагониста пешком: «Не забыв расплатиться с извозчиком, бросился господин Голядкин на улицу» [Достоевский 19726: 206].
Несмотря на непрерывные передвижения и безудержные траты, Голядкин не достигает конечной цели и до самого конца повести не покупает ничего по-настоящему ценного. В этом плане и его перемещения, и его траты аналогичны его речи. Характеризуясь запинками и неэффективным многословием, как во впечатляюще бессодержательной цепочке фраз «Так и так, дескать… вот как…», речь Голядкина постоянно уходит в сторону, только чтобы снова вернуться к началу [Достоевский 19726:196].
Если говорить с позиций экономики, Голядкин растрачивает свои слова, тратит их неразумно, получая взамен мало или ничего (с точки зрения связности и понимания собеседником) [90]. Это особенно справедливо в отношении его словесных попыток заявить о собственном статусе, например, в первом разговоре с доктором:
Я говорю, чтоб вы меня извинили, Крестьян Иванович, в том, что я, сколько мне кажется, не мастер красно говорить <…> много говорить не умею; придавать слогу красоту не учился. Зато я, Крестьян Иванович, действую; зато я действую, Крестьян Иванович! [Достоевский 19726: 116].
Голядкину, перебивающему самого себя оговорками и повторами, не удается выразить почти ничего, кроме неумения выражаться.
Глагол действовать, который повторяет Голядкин, чтобы представить себя человеком действия, человеком не пустым, ослабляет его претензии на личное достоинство. У этого слова есть и дополнительные значения: «работать», «функционировать» или «обладать законной силой», и это может относиться к билетам, ассигнациям, купонам. Притязания Голядкина на действие или работу перекликаются с водяным знаком на российской ассигнации, выпускавшейся с 1769 по 1817 год: «Любовь к отечеству / Действует к пользе оного» [91]. Распространение бумажных денег с аналогичными заявлениями о действенности в 1840-е годы может помочь разъяснить, почему Крестьян Иванович «странно и недоверчиво» глядит на Голядкина, подвергая сомнению употребление героем этого глагола: «Гм… Как же это… вы действуете?» [Достоевский 19726: 116]. Другой перекличкой с заявленным на водяном знаке утверждением о «пользе отечеству» оказывается мечтание Голядкина о том, как он своими речами разоблачит двойника, покушающегося на его личную легитимность:
…я бы тут и того – дескать, так и так, а мне, сударь мой, с позволения сказать, ни туда ни сюда; дескать, дела так не делаются; дескать, сударь вы мой, милостивый мой государь, дела так не делаются и самозванством у нас не возьмешь; самозванец, сударь вы мой, человек, того – бесполезный и пользы отечеству не приносящий [Достоевский 19726:212].
Но эти слова, изобилующие повторами, Голядкин не произносит вслух, а сам же открещивается от них, говоря: «Я-то что вру, дурак дураком!» [Достоевский 19726: 212]. Это один из нескольких примеров, где Голядкин, описывая двойника, сам бесконечно повторяется, как бы множа словесных двойников; ранее в повести он напрямую сравнивает двойника с Гришкой Отрепьевым – Лжедмитрием I, который объявил себя законным наследником российского престола (1605–1606 годы):
А самозванством и бесстыдством, милостивый государь, в наш век не берут. Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводит, а до петли доводит. Гришка Отрепьев только один, сударь вы мой, взял самозванством, обманув слепой народ, да и то ненадолго [Достоевский 19726: 167–168].
Повторяющееся сравнение Голядкиным двойника с царем-самозванцем демонстрирует ту самую бесполезность, которую он хотел бы разоблачить в другом человеке. Как и бумажные деньги, девальвированные избыточным их выпуском, многословие Голядкина имеет малую ценность.
Общие функции безудержных денежных и словесных трат Голядкина, которые одновременно и формируют, и подрывают заявления о ценности, составляют основу той аналогии, которую «Двойник» проводит между деньгами и словами. Проясняясь в ходе развития сюжета, эта аналогия становится явной уже в открывающем повесть описании голядкинских ассигнаций.
Само слово ассигнация, восходящее к латинскому signum (‘знак’), выявляет семиотический характер денег. Если иностранное происхождение русских терминов «ассигнация» и «кредитный билет» делает взаимосвязь между денежными знаками и ценностью проблематичной, то переходное состояние 1840-х годов, когда замененные кредитными билетами ассигнации были изъяты из обращения, делает последние особенно характерным примером знаков, связь которых с референтом ненадежна.
Этот переходный характер очевиден в красочном описании денег: «зелененькие, серенькие, синенькие, красненькие и пестренькие». Ассигнации красного и синего цвета (а также белого и бежевого) существовали, но серых, зеленых или «пестреньких» никогда не было. Рассказчик на самом деле дает описание заменивших ассигнации кредитных билетов, которые и выпускались каждого из названных цветов. Деньги Голядкина появляются в гибридном виде: название старое, вид новый. Старое название ассигнация относится к недавно изъятому из обращения денежному знаку, а новое название кредитный билет еще не вошло в повсеместное употребление. Это цветовое несоответствие между устоявшимся названием и названным объектом, появляясь в самом начале «Двойника», оказывается первым из множества примеров, где постоянная неопределенность относительно типа и ценности денег ставит вопросы референциальной ценности языка.
Сравнение денег и языка имеет долгую историю в западной науке [92]. Особенно хорошо известно сравнение Ф. да Соссюра денежной и лингвистической «ценности» («значимости» – в пределах языка):
Так, не металл монеты определяет ее ценность: монета номинально стоящая пять франков содержит лишь половину этой суммы в серебре; она будет стоить несколько больше или меньше не в зависимости от содержащегося в ней серебра, но в зависимости от вычеканенного на ней изображения, в зависимости от тех политических границ, внутри которых она имеет хождение. В еще большей степени это можно сказать о лингвистическом «означающем», которое по своей сущности отнюдь не есть нечто звучащее, но нечто бестелесное, образуемое не своей материальной субстанцией, а исключительно теми различиями, которые отделяют его акустический образ от прочих [Соссюр 2019: 123].
Соссюр проводит эту аналогию между деньгами и языком, чтобы пояснить, что значимости языковых знаков дифференциальны, т. е. приобретают значение только в отношениях с другими знаками. Это сравнение языкового знака с монетой также подкрепляет утверждение о произвольности знака в языке. Как и монета, лингвистический знак репрезентирует нечто (понятие), не присущее ему изначально, но приписываемое в соответствии с социальными конвенциями.
Для Соссюра, как и для Достоевского, аналогия между денежными и языковыми знаками ставит под сомнение идею о том, что слова напрямую отсылают к уже существующим объектам. Предполагая, что язык есть «система чистых значимостей», Соссюр не включает референт в свою модель лингвистического знака, состоящую только из «акустического образа» (означающего) и «понятия» (означаемого) [Соссюр 2019: 117]. Опередив пересмотр Соссюром лингвистической системы референциальности более чем на полвека, Достоевский создавал «Двойника» как