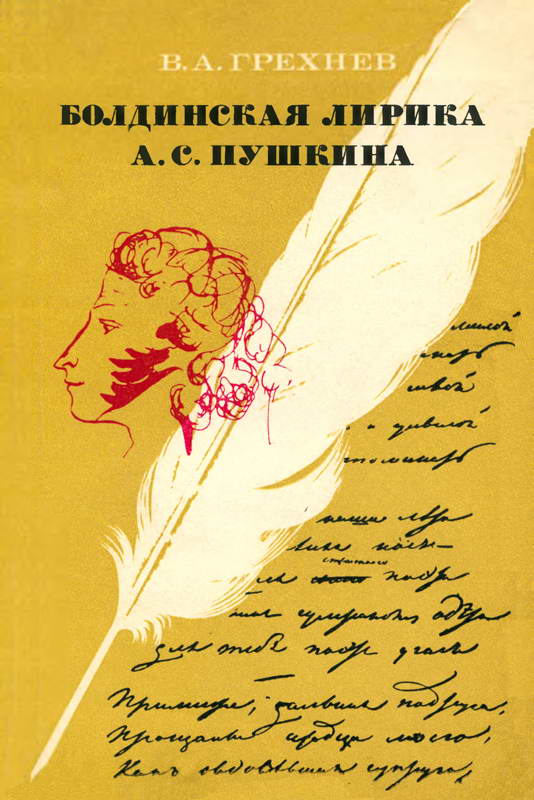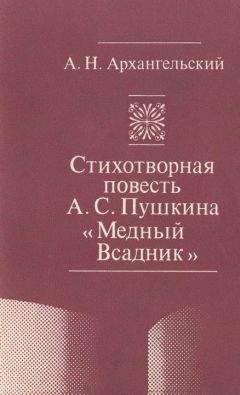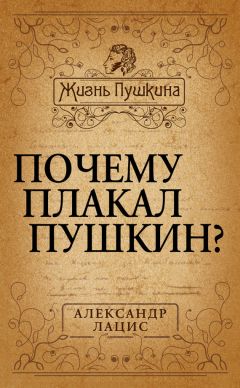такого слова не столь уж существенна по сравнению с тем настраивающим воздействием, которое оно оказывает на интонацию стиха и его образную структуру в целом. Дело даже не в том, назван пушкинский адресат или нет, хотя мы допускаем, что указание на конкретного адресата позволяет опереться в восприятии стиха на контекст пушкинского творчества и пушкинской биографии одновременно. И эта опора раздвигает изобразительные возможности отдельного произведения. Но у Пушкина немало стихотворений, обращенных к безымянному адресату. К тому же адресат этот далеко не всегда получает место развернутого образа в построении стиха, оставаясь как бы за его порогом, не обрастая характерологическими приметами (например, в гениальных пушкинских миниатюрах «Все в жертву памяти твоей…», «Я вас любил…»). Но было бы упущением не учитывать в этом случае роль обращенного слова. Порою именно в безымянных адресациях Пушкина яснее проступают поэтически трансформированные сигналы общения, приметы речевой ситуативности. Достаточно сравнить здесь пушкинскую миниатюру «Все кончено, меж нами связи нет…» (1824) и стихотворение «Кн. М. А. Голицыной» (1823). Первая из них всецело построена как ответ на «чужое слово», втянутое в монолог лирического субъекта.Все кончено: меж нами связи нет. В последний раз обняв твои колени, Произносил я горестные пени. Все кончено — я слышу твой ответ. Обманывать себя не стану вновь, Тебя тоской преследовать не буду, Прошедшее, быть может, позабуду — Не для меня сотворена любовь. Ты молода: душа твоя прекрасна, И многими любима будешь ты.
Лирический образ целиком порожден здесь своеобразным реплицированием чужого слова. Недаром оно подхватывается авторской речью в драматически-решительном утверждении зачина, рождая скорбное эхо, которое отдается в каждой строке, продолжая жить и в суровой окончательности самозапретов («Обманывать себя не стану вновь, Тебя тоской преследовать не буду» и т. д.). Обращенное слово здесь «срослось» с лирической ситуацией, неотделимо от нее. Оно, если можно так выразиться, еще от нее не отошло на охлаждающую поэтическую дистанцию и потому все пронизано трепетом неостывшей боли.
Совсем иное — в стихотворении «Кн. М. А. Голициной». Формально обращенная к адресату, поэтическая речь здесь подчинена центростремительным силам. Она созидает образ воспоминанья («Давно о ней воспоминанье Ношу в сердечной глубине»), замкнутый в пределах монологической исповеди. «Она» — лишь объект памяти, а не субъект общения. И стихотворение это — картина душевных итогов, но не образ мгновения, воплощенного в его «сиюминутном» протекании. Настоящее время лирического высказывания живет в этом случае только преломлениями прошлого. Этот временной барьер между субъектом высказывания и адресатом формализует установку на обращение, притаившуюся в названии, не позволяя ей развернуться в поэтическом слове. Образ М. А. Голициной предстает отчужденным, изъятым из художественной ситуации общения.
Обращенное слово Пушкина не только строит образ особой аудитории единомышленников (в лицейских посланиях, в поздних стихотворениях, обращенных к друзьям). В широких философских измерениях пушкинской художественной мысли оно предполагает сообщаемость духовных миров как принцип человеческого бытия. У Пушкина оказываются проницаемыми сознания разных уровней: слово Пушкина адресуется, преисполненное уверенности в возможностях понимания, не только к собратьям «по музам и мечтам», но и, например, к непосредственной, нетронутой рефлексией, не осложненной печатью самосознания женской душе, и здесь отыскивая тропу к духовному в человеке. Редкостная общительность пушкинской музы утверждает мудрое и трезвое родство душ, лишенное романтической установки на избранничество, на фатальную предназначенность сердец. Создается впечатление, что лирическое переживание Пушкина только и может раскрыться в этом живом и разомкнутом слове обращения, что ему органически необходим этот эффект присутствия другого «я», на которого ориентируется лирическое высказывание.
В болдинской лирике адресация слова обретает особое значение. Она размыкает трагическое уединение мысли. Она воздвигает мост над пропастью, разделяющей прошлое и настоящее. Уже в самом обращении к адресату, реальному или условному, заключена своеобразная энергия преодоления трагического разлада с миром и того разобщения с ним, которое порождается исповедальной сосредоточенностью сознания.
Далеко не случайно, что именно на переломе лирического размышления в болдинской «Элегии», именно там, где вспыхивает волевое усилие мысли, превозмогающей жизненный мрак, возникает и обращение к адресату, хотя бы и условному: «Но не хочу, о други, умирать».
«Прощальные» стихотворения Пушкина — не только утверждение разлуки с прошлым, но и подтверждение живой связи с ним. Только этим и можно объяснить то изумительное «ясновиденье» поэта, которое, прикасаясь к минувшему, оживляет его опаляющие душу подробности. Вопрос лишь в том, как выражается эта связь и в чем ее смысл. Обращение к умершей возлюбленной в «Заклинании» и в «Для берегов отчизны дальной…» создает особый трагический контраст мертвого и живого, живой мучительной памяти и безжизненности «возлюбленной тени», человеческой судьбы, похищенной смертью. Но к мертвому здесь обращаются как к живому. Над всевластием смерти торжествует память и воскрешающая сила искусства. Пушкин, как уже говорилось, не питает никаких иллюзий насчет романтической вечной любви. Но его прощальная лирика убеждает в том, что если нельзя вернуть минувшее и сохранить навсегда первозданную силу чувства, то нельзя и вычеркнуть его из «книги бытия», даже на переломе судьбы, ибо оно стало звеном в ее нерасчленимой цепи. «Но строк печальных не смываю» — эти слова пушкинского «Воспоминания» можно было бы поставить эпиграфом к «прощальной» лирике болдинской поры.
Среди стихотворений «прощального цикла» пушкинское «Прощание» — единственное произведение, обращенное к живой женщине. Не так давно Г. П. Макогоненко пытался пересмотреть это традиционное представление, выдвинув гипотезу о том, что все три стихотворения («Прощание», «Заклинание», «Для берегов отчизны дальной…») объединяются одним образом умершей возлюбленной поэта [46]. Гипотеза эта не убеждает. Она расходится с художественной логикой пушкинского текста. Единственное, в сущности, на что она могла бы опереться, — пушкинский образ:
Уж ты для своего поэта Могильным сумраком одета.
Но для этого пришлось бы выхватить его из контекста и истолковать в прямолинейно-реальном значении. Что это метафора, обращенная в психологический план, подтверждается контекстом предшествующих строк:
Бегут меняясь наши лета, Меняя все, меняя нас.