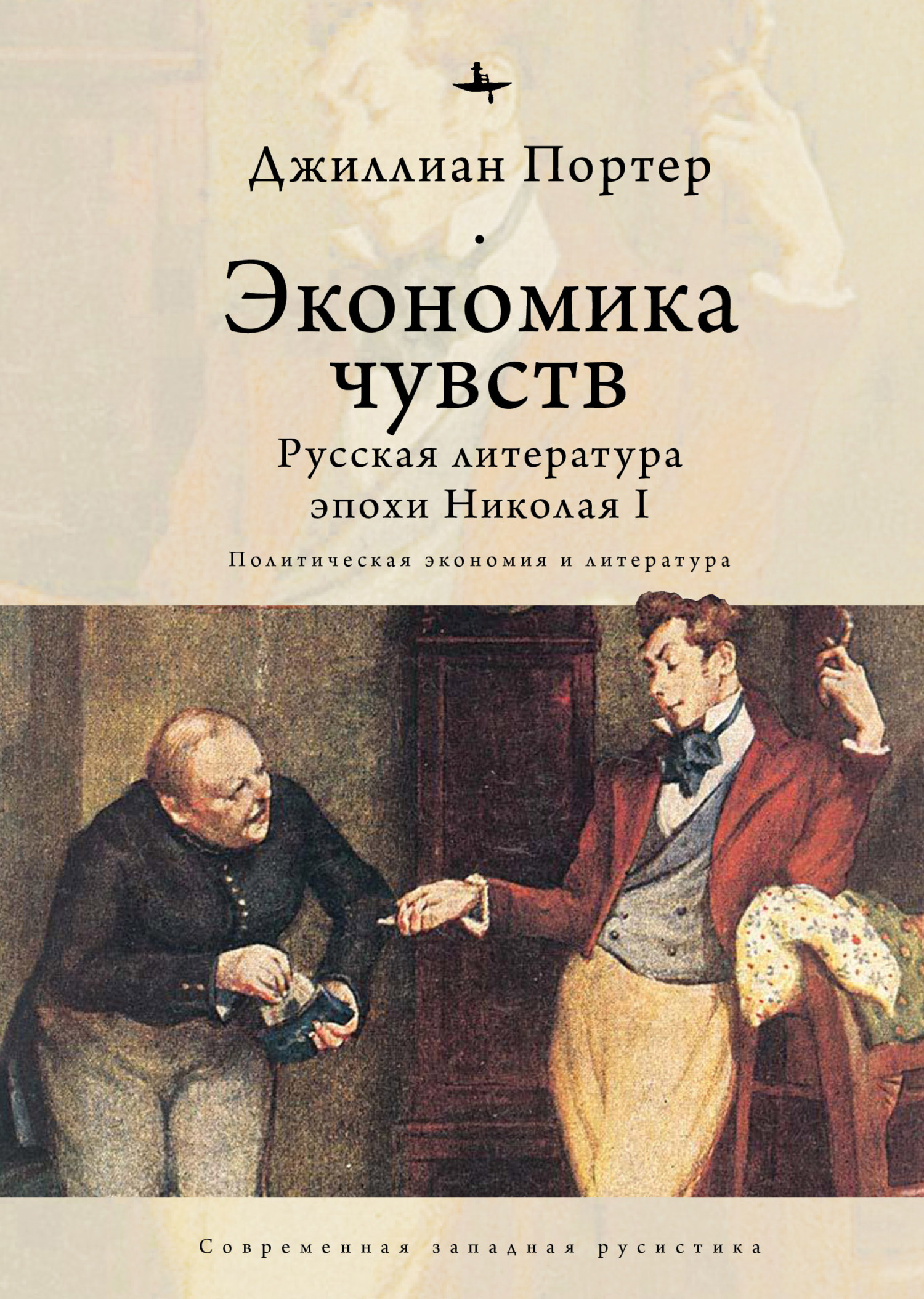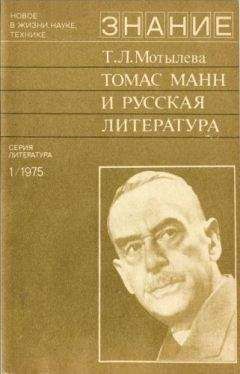в творчестве большинства крупных русских баснописцев, в том числе и у И. А. Крылова. Скупцы не сходят со сцены в XVIII–XIX веках в постановках «Скупого» Мольера (1668, первый перевод и постановка на русском языке – 1757 год) и одноименной русской комической оперы на музыку В. А. Пашкевича по либретто Я. Б. Княжнина (первая постановка – 1782 год, опубликована в 1787 году) [106]. Хотя перевод и адаптация западноевропейских басен и комедий о скупцах представляют собой примеры более широких практик «культурного импорта» [Клейн 2005] в русском неоклассицизме, скупца здесь отличает привлекательность этого персонажа для авторов, экспериментировавших с типологией романтизма и реализма в XIX столетии. Эта привлекательность порождена статусом скупца как образцового типа.
В качестве тем басен о скупцах обычно воплощены античные принципы. В «Скупом, потерявшем свое сокровище» Лафонтен приводит в пример соответствующую басню Эзопа:
L’homme au tresor cache qu’Esope nous propose,
Servira dexemple a la chose.
Человек co скрытым сокровищем, которого изображает нам Эзоп,
Послужит этому примером [107].
Здесь Лафонтен указывает читателям на значение примера для басенного жанра. Будучи порождены риторической фигурой exemplum [108], басни пускают в обращение обновленные примеры общих идей [109]. Эти примеры, по сути, метафоричны: предполагается, что читатели понимают, что люди или животные в басне похожи на людей за пределами художественного пространства и что принцип, изображенный в басне, также применим к людям за пределами ее текста. В своем исследовании о традиции русской басни Н. Л. Степанов указывает, что способность басни устанавливать аналогии между абстрактными идеями и конкретными элементами реалий современного социума является причиной ее распространения в мировой литературе: писатели в любом историческом контексте способны реагировать на существующие басни новыми примерами представленных ими принципов [Степанов 1977: 9]. Я бы добавила, что функция обновления примера может объяснить, почему скупец так процветает в сборниках басен: межкультурная повсеместность денег генерирует все больше образцов этого типа.
Русские баснописцы выводят авторефлексивную экземплификацию Лафонтена на новый уровень. В «Стороже богатства своего» (1762) основатель басенного жанра в России А. П. Сумароков сравнивает своего скупого не с одним, а с тремя предыдущими примеров этого типа:
Сказал певец Анакреон,
Что тщетно тот богатство собирает,
Который так равно, как бедный умирает <…>
У Федра Притча есть: лисица роя нору,
Прорылась глубоко,
И в землю забрела, гораздо далеко:
Нашла сокровище, под стражей у дракона,
По Молиерову у Гарпагона, По моему у дурака,
Который отлежал, на золоте, бока
[Сумароков 1762: 60–61] [110].
Опираясь на стихотворение «К скупцу» из греческого сборника, известного как «Анакреонтика» [111], басню Федра «Лиса и дракон» и мольеровского «Скупого», Сумароков является продолжателем западной типологической традиции. Он также подчеркивает широкий спектр предыдущих образов скупца. Следуя за своим земляком, В. И. Майков в своей басне «Скупой» (1767) добавляет Сумарокова к списку авторов, описывающих этот тип:
Он —
Как Молиеров Гарпагон
Или каков у Федра есть дракон,
Который на своем богатстве почивает,
А Сумароков называет
Такого дураком
И стражем своего именья,
Которому в нем нет увеселенья
[Майков 1966: 148].
Скупец, будучи долговечным типом, побуждающим к подражанию и сравнению, оказывается узнаваемой формой литературной валюты, которую можно переводить из одной культуры в другую или заново чеканить в любом месте и в любое время. Русские баснописцы, признавая, что запасают эту валюту, изображают развитие литературы как процесс накопления. Скупец становится метафорой автора, а его клад – сокровищем текста.
В только что процитированных русских баснях текстуальное сокровище насыщено иностранными ценностями: это и сам тип скупца, и исторические воплощения его. В то время как Сумароков и Майков с легкостью сравнивают русские и иностранные ценности, в XIX веке русские авторы используют образ скупца для того, чтобы поставить это очевидное сопоставление под вопрос. Как видно из басни Крылова «Скупой» (1825), явный отклик на аккумулирование чужеземных ценностей в России порождает новую форму писательского интереса, поскольку русская литература начинает принимать свои очертания, критически воспринимая зарубежные жанровые, стилевые формы, а не заимствуя их напрямую [112]. В басне Крылова рассказывается о состоятельном домовом, который обманом заставляет своего скупого хозяина хранить сокровище много лет. Вернувшись домой, домовой обнаруживает, что его хозяин и вправду повел себя в соответствии с европейской традицией:
Скупой с ключом в руке
От голода издох на сундуке —
И все червонцы целы
[Крылов 1956: 204].
Образ мертвого скупца, уморившего себя голодом, но не выпустившего из рук ключи, чтобы сберечь червонцы в сундуке, содержит некоторые базовые образные элементы этого типа: извечные ключи, труп, иссохший от голода, и явленный на обозрение клад, который перейдет к другому персонажу после смерти скупца.
Как будто смерть сама по себе не является достаточным предостережением для читателей, басни о скупости, как правило, содержат прямую критику страсти к деньгам в promythium или epimythium (первых или последних строках, поясняющих мораль басни). Эта критика может исходить от рассказчика или персонажа, чей голос созвучен с рассказчиком. Например, в басне Федра «Собака, сокровище и коршун» [Федр 1962: 17], переведенной на русский язык И. С. Барковым в 1764 году («Собака, нашедшая сокровище, и Сип»), рассказывается о собаке, которая умирает с голоду, охраняя сокровище. Заканчивается басня словами коршуна (приведем перевод XVIII века):
Достойно, говорил, ты алчной пес, погиб,
Кой на распутии в навозе зародился,
Скитался там и здесь, навозом и кормился;
Да в голову того ты выросши не взял,
И царских вдруг себе сокровищ пожелал
[Барков 1872:212].
Басня Крылова отходит от этой структурной традиции помещать отличный от скупца персонаж в басню, чтобы совместно с рассказчиком критиковать скупость. Другой персонаж в басне Крылова – домовой – сам является скупцом, который использует героя-скупца как средство достижения собственных корыстолюбивых целей. Если домовой сотрудничает с рассказчиком или автором этой басни, то тогда их сотрудничество является нарративным обманом, «веселым лукавством ума», которое ценил Пушкин в Крылове [Пушкин 1949а: 34], а не назидательностью или социальной сатирой [113].
Крылов известен мудрым юмором своих басен, а юмор такого рода отчасти проистекает из свободного обращения с европейскими культурными ценностями. Последние строки гласят: