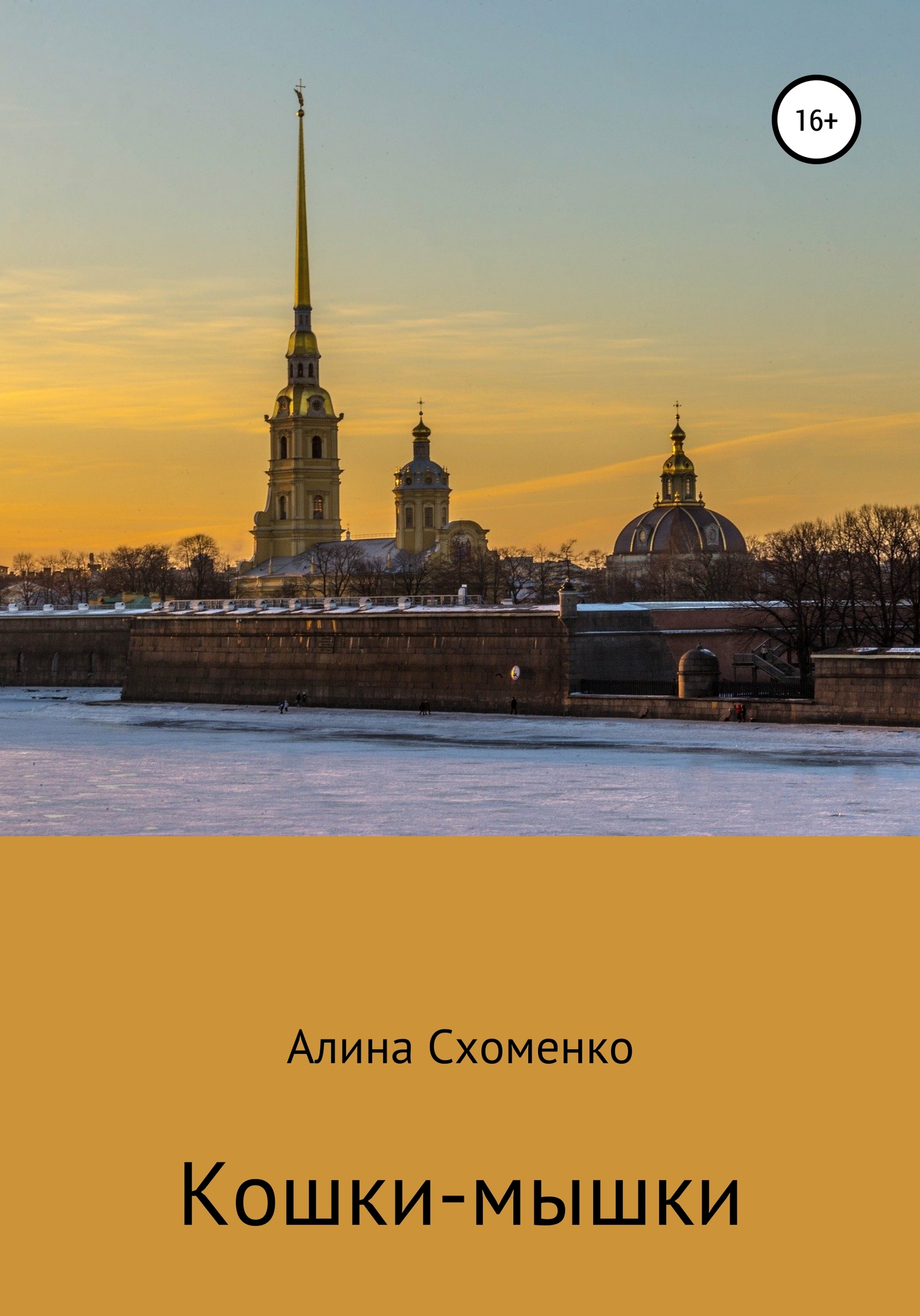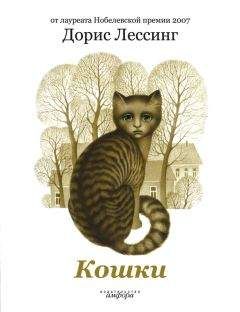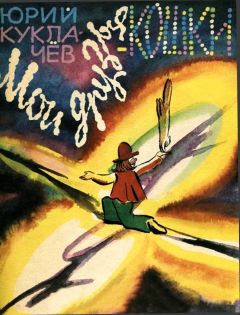— Они, Бойз, все до дна из тебя выскребут, — сказал он и погладил кошачью голову своим щетинистым подбородком. — Женщины вас не любят. Жаль, что ты не пьешь, Бой. Остальное ты уже почти все умеешь.
Кота сперва назвали по имени крейсера «Бойз», но уже давно Томас Хадсон стал звать его просто Бой.
Второе письмо он прочитал до конца без комментариев и, протянув руку за стаканом, отхлебнул виски.
— Так, — сказал он. — Что-то, брат, ничего не получается. Знаешь что, Бой, ты читай эти письма, а я буду лежать у тебя на груди и мурлыкать. Хорошо?
Кот поднял голову и потерся о его подбородок, а он потерся о кошачью голову, проведя своим колючим подбородком у кота между ушами и дальше по затылку и между лопатками, и вскрыл третье письмо.
Этому белому с черным коту Хемингуэй посвящает еще несколько весьма колоритных строк в своем романе.
Кот лежал довольный, дыша в такт с человеком. Большой кот, длинный и ласковый, подумал о нем Томас Хадсон, и худой от слишком усердной ночной охоты.
— Как у тебя шли дела, пока меня не было, а, Бой? — Он отложил письмо и поглаживал кота под одеялом. — Много наловил?
Кот повернулся на бок и подставил живот, чтобы его погладили, как он делал это в те дни, когда был котенком, когда жил еще счастливо и беззаботно.
Так мог написать только человек, очень любящий и хорошо знающий котов.
— Бой, — сказал он, — придется мне тебя снять, чтобы я мог лечь на бок.
Он поднял тяжелое обмякшее тело кота, которое вдруг ожило у него в руках, а потом опять обмякло, и положил его рядом с собой, затем сам повернулся так, чтобы опираться на правый локоть. Кот теперь лежал у него за спиной. Он был недоволен, пока его перекладывали, но потом опять заснул, прикорнув к Томасу Хадсону.
Или вот еще одна «кошачья» история из романа «Острова в океане»:
— Ты чудно умеешь отдыхать, Бой, и ты так сладко спишь, — сказал он коту. — Значит, тебе не так уж плохо пришлось.
Он подумал, не выпустить ли кого-нибудь из других котов для компании и чтобы было, с кем поговорить, пока Бойз спит. Но потом решил, что не надо. Бойз обидится и будет ревновать. Когда они вчера подъехали в большой машине, Бойз уже околачивался возле дома, поджидая их. Он страшно волновался и, пока они выгружались, все время путался под ногами, с каждым здоровался и то вбегал в дом, то выбегал, как только отворяли дверь. Наверно, он каждый вечер ждал их здесь с тех самых пор, как они уехали. Когда Томас Хадсон получал приказ об отъезде, кот узнавал об этом с первой минуты. Конечно, о приказе он знать не мог, зато ему хорошо были известны даже самые первые признаки сборов в дорогу, и, по мере того как подготовка проходила дальнейшие стадии, вплоть до заключительного беспорядка — ночевки чужих людей в доме (Томас Хадсон всегда требовал, чтобы в полночь они уже спали, если предстояло выезжать до рассвета), — кот становился все более взвинченным и нервным, а когда они начинали грузиться в машину, он уже был сам не свой и приходилось его запирать, чтобы он не погнался за ними по подъездной аллее и дальше в деревню и на шоссе.
Как-то раз, проезжая по Центральному шоссе, Томас Хадсон увидел сбитого машиной кота, и этот кот, только что сбитый машиной и уже мертвый, был как две капли воды похож на Боя. Спина у него была черная, а горло, грудь и передние лапы — белые, и на мордочке такая же черная полумаска. Он знал, что это не может быть Бой, потому что все это происходило более чем в шести милях от фермы, и все же у него похолодело внутри, и он остановил машину и пошел назад, поднял кота и удостоверился, что это не Бой, а потом положил его на обочину дороги, чтобы его уж больше не могли переехать. Кот был ухоженный, гладкий, видно было, что это чей-то кот, и Томас Хадсон оставил его у дороги, чтобы хозяева могли его увидеть и узнать о его судьбе и хоть не мучиться больше неизвестностью. Если бы не это, он взял бы кота в машину и похоронил на ферме.
Когда вечером Томас Хадсон возвращался на ферму, тело кота уже не лежало на том месте, где он его оставил, и он решил, что, должно быть, хозяева его нашли. В тот же вечер уже дома, сидя за книгой в большом кресле с Бойзом, примостившимся рядом, Томас Хадсон вдруг подумал: что бы он делал, если бы Бойза так же вот убило? Судя по припадкам отчаяния, находившим иногда на Бойза, кот питает к нему подобные же чувства.
Он из-за всего волнуется еще больше, чем я. Зачем это ты, Бой? Если бы ты так не расстраивался, тебе бы лучше жилось. Я же вот стараюсь быть спокойным, сколько могу, говорил себе Томас Хадсон. Правда, стараюсь. А Бой не может.
Когда они уходили в море, Томас Хадсон и там думал о Бойзе, о его странных привычках, о его отчаянной, безнадежной любви. Он вспоминал, как увидел его в первый раз, когда тот был еще котенком и играл со своим отражением в стеклянной крышке табачного прилавка в баре, что был выстроен в Кохимаре прямо на утесах, высящихся над гаванью.
А вот история о том, как главный герой романа ел в баре креветки и познакомился с котенком, который потом стал его любимым Бойзом:
Томас Хадсон оторвал японскому адмиралу шейку, затем большими пальцами взломал скорлупу у него на животе и высосал всю креветку, и она была такая свежая и шелковистая на зубах и такая ароматная оттого, что была сварена в морской воде и приправлена свежим лимонным соком и черным перцем-горошком, — Томас Хадсон еще подумал, что лучших он нигде не едал, ни в Малаге, ни в Таррагоне, ни в Валенсии. И тут-то котенок подбежал к нему — бегом промчался через весь бар — и стал тереться о его руку и выпрашивать креветку.
— Они слишком большие для тебя, кискин, — сказал Томас Хадсон. Но все же отщипнул пальцами кусочек и подал котенку, и тот, ухватив его, побежал обратно на витрину табачного прилавка и стал есть быстро и жадно.
Томас Хадсон разглядывал этого котенка с его красивой черно-белой расцветкой — белая грудь, и белые передние лапки, и черная полумаска на лбу и вокруг глаз, — наблюдал, как он рычит и пожирает креветку, и спросил наконец, чей это котенок.
— Захотите, ваш будет.
— У меня дома уже есть двое. Персидские.
— Подумаешь, важность — двое! Возьмите еще и этого. Чтобы в их будущем потомстве было немножко кохимарской крови.
— Папа, можно нам его взять? — спросил один из его сыновей, о которых он теперь никогда не позволял себе думать. Мальчик поднялся по ступенькам с террасы, где он смотрел, как возвращаются к берегу рыбачьи лодки — как рыбаки убирают мачты, выгружают смотанную кругами снасть, сваливают рыбу на берег. — Папа, пожалуйста, возьмем его! Он такой красивый.
— Ты думаешь, ему будет хорошо вдали от моря?
— Конечно. А тут ему скоро станет очень плохо. Ты же видел на улицах, какие они жалкие, эти бродячие коты? А когда-то, наверно, были такие же, как он.
— Возьмите его, — сказал хозяин. — Ему будет хорошо на ферме.
— Слушай, Томас, — заговорил один из рыбаков, который, сидя за столом, прислушивался к их разговору. — Если тебе нужны коты, так я могу достать тебе ангорского из Гуанабакоа. Настоящего ангорского.
— А он точно мужского пола?
— Не меньше, чем ты, — сказал рыбак. За столом все засмеялись. На этом построены почти все испанские шутки.
— Только у него там шерсть. — Рыбаку захотелось вторично вызвать смех, и это ему удалось.
— Папа, ну, пожалуйста, возьмем этого котенка, — сказал мальчик. — Он мужского пола.
— Ты уверен?
— Я знаю, папа. Знаю.
— Ты и о персидских говорил то же самое.
— Персидские — другое дело, папа. С персидскими я ошибся и признаю это. Но теперь я знаю, папа. Знаю точно.
— Слушай, Томас. Хочешь тигрового ангорского из Гуанабакоа? — спросил рыбак.
— Да что он такой за особенный кот? Для колдовства, что ли?
— При чем тут колдовство? Этот кот никогда даже не слыхал ни о каком колдовстве. Он больше христианин, чем ты.
— Es muy posible[5], — сказал другой рыбак, и они опять засмеялись.