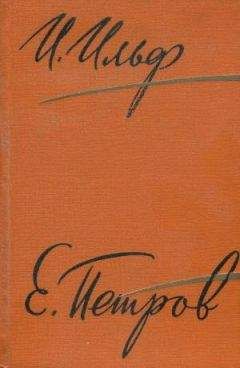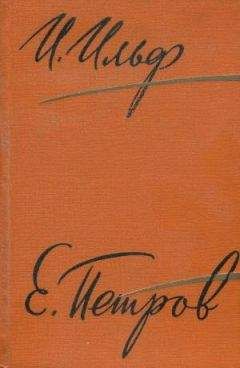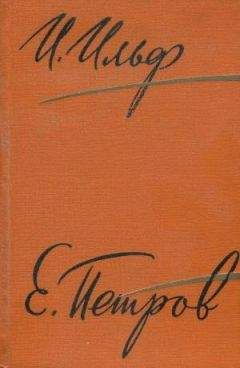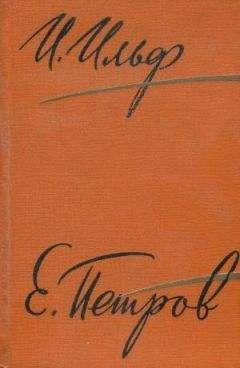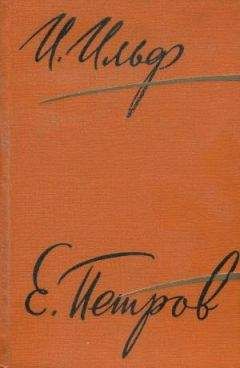в любом российском городе с железной дорогой, однако в фельетоне И.А. Ильфа «Страна, в которой не было революции» (1923) одесские обыватели трепещут перед «гремящими, звенящими и стонущими железнодорожными мастерскими» [230].
О родном городе авторов романа вновь напоминает описанная в главе «Слесарь, попугай и гадалка» вывеска на одном из старгородских домов: «Одесская бубличная артель “Московские баранки”». И неважно, что в 1920-е годы парадоксы подобного рода стали довольно заурядным явлением, поскольку на вывесках указывались место официальной регистрации фирмы и ее название, иногда совпадавшее — полностью или частично — с наименованием основной продукции, как это было с вполне реальной «Саратовской артелью “Одесская халва”». Главное, что для земляков Ильфа и Петрова описание вывески «бубличной артели», регистрировавшейся в Одессе, дабы выпекать баранки по московскому образцу, было прозрачным намеком на работавшую тогда в Одессе «Московскую вегетарианскую столовую», где подавались «московские горячие блины».
Шизофренический эффект производит то обстоятельство, что в романе фигурирует как Старгород-Одесса, так и собственно Одесса. Как уже говорилось, в «Двенадцати стульях» мотив Одессы связан с великим комбинатором как типом, да и, кроме того, Остап постоянно демонстрирует «одесскую» компетентность. То шутит в главе «Следы “Титаника”», что «всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице» (шутка, характерная для одесситов: на Малой Арнаутской было множество мастерских, где кустарным образом изготовлялась мнимоконтрабандная парфюмерия); то, рассказывая ипподромный анекдот предреволюционных лет, называет С.И. Уточкина (1876–1915): одесская легенда, один из первых русских авиаторов, первоначально получивший известность как велогонщик (кстати, понятно, почему в романе Уточкин хорошо разбирается в бегах — в начале века велогонки часто проводились на ипподромах, там же гонщики тренировались, почему и были беговыми завсегдатаями). Таким образом, Воробьянинов родом из Старгорода-Одессы, а Бендер, очевидно, из собственно Одессы, тем не менее они — не земляки. Впрочем — по законам романа — ведь и Красные ворота могут сноситься одновременно в Москве и «уездном городе М».
Стоит повторить: Старгород — не вполне Одесса, не вся Одесса. Однако Ильф и Петров хоть и не ставили задачу точного описания родного города, но и скрывать прототип не хотели. Если б захотели, то по крайней мере убрали бы однозначно идентифицируемые реалии. В «Двенадцати стульях» соавторы лишь определили свое — тогдашнее — отношение к Одессе. И даже не к Одессе как таковой, а к своему прошлому. Столичные литераторы свели с ним счеты. Старгород — провинциальная глушь, типичное захолустье, где открытие первой трамвайной линии в 1927 году — событие губернского масштаба. Настоящая жизнь — в Москве, куда и уехали будущие соавторы. Аналогичный путь — несколько раньше или несколько позже — выбрали многие их земляки и знакомые. Ю.К. Слеша, например, вспоминал: «Когда я приехал в Москву, чтобы жить в ней — чтобы начать в ней фактически жизнь…» [231]. Вся «домосковская» жизнь мыслилась в качестве пролога к «фактической» — столичной.
Само «говорящее имя» — Старгород — обозначает Одессу как город прошлого, как провинциальный город. Это — топоним, который фиксирует не индивидуальность, а типичность (ср. «город М» — «город ИМ» — «Энск», «Глупов», «Калинов», «Скотопри-гоньевск», «Окуров», «Лихов», «Градов»). Чуть позже — в сатирической прозе конца 1920-х годов — Ильф и Петров придумают еще Пищеслав, Колоколамск (который вдобавок при печатании будет изображен на пародийном плане, нарисованном К. Ротовым). Такое имя легко заменяется и варьируется. Судя по наброскам, авторы первоначально намеревались назвать город Барановым или Барановском, своего рода — Глуповым, но потом остановились на Старгороде.
«Старгород» напоминает о хрестоматийном гоголевском Миргороде с его лужей и аллюзивно воспроизводит топоним из романа Н.С. Лескова «Соборяне» [232]. Потому при изображении Старгорода — пусть не Одессы, но российского провинциального города — Ильф и Петров цитируют современные им произведения отечественной литературы, манифестирующие не «одесский», но «провинциальный» текст.
Прежде всего, в поле их внимания попадает эпопея «Русь» П.С. Романова, три части которой были выпущены к 1926 году.
В романовской эпопее изображается — чуть ли не с толстовским размахом — российская провинция накануне Первой мировой войны. Одна из сцен «Руси» — собрание «дворянской общественности», пожелавшей создать некую организацию, вроде бы и проправительственную, но в то же время и оппозиционную. Автор относится к намерениям героев явно иронически: «Общество должно было преследовать задачи чисто местного характера, но большинство ораторов после речи председателя взяло сразу такой масштаб, который покрывал собою все государство, даже переходил его границы и усматривал недостатки в организации жизни западных соседей» [233]. Нечто подобное, только еще более комически сниженно, описывают Ильф и Петров. Спустя десять лет после Октябрьского переворота «лучшие люди» Старгорода учреждают — с подачи великого комбинатора — пренелепый «Союз меча и орала»: провинциальный монархический заговор, амбициозно ориентированный на помощь «заграницы».
На уровне сюжета эпизод с «Союзом меча и орала» — очередная афера великого комбинатора, добывающего финансовые средства для дальнейших похождений.
На уровне идеологии — новый аргумент в пользу невозможности консолидации внешних и внутренних врагов, антисоветского подполья. Весь роман — развернутое доказательство необратимости перемен, прочности советского режима. Авторы подчеркивают: противники режима из числа «бывших» еще остались, но они совсем не опасны. Нет больше ни дворянства, ни купечества, ни «русской интеллигенции», есть лишь нерадивые совслужащие, кустари, жулики, трусливые ничтожества, а созданный Бендером «Союз меча и орала» — организация эфемерная: при первой же оказии горе-заговорщики наперегонки бегут доносить всемогущему ОГПУ друг на друга и на мнимых эмигрантов.
На уровне литературных аллюзий — диалог с Романовым. Центральный герой «Руси», Митенька Воейков, на собрании «сидел и все время боялся, как бы не спросили его мнение о чем-нибудь или о том, к какой партии он хочет присоединиться». Однако вопрос все же был задан: «Вы какой партии?» Испуганный Воейков испугался еще больше: «— Я ни к какой… кажется, — сказал Митенька, покраснев еще больше. И ждал, что сейчас же все на него оглянутся, начнут смеяться» [234]. Эту ситуацию пародийно воспроизводят Ильф и Петров в диалоге Бендера и Чарушникова: «— Вы в каком полку служили? — Чарушников запыхтел. — Я… я, так сказать, вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием общества, проходил по выборам. — Вы дворянин? — Да. Был». В романе Ильфа и Петрова новоявленные заговорщики тоже озабочены определением партийной принадлежности: «Стали разбираться в том, кто какой партии сочувствует», и выяснили, что «левее октябристов» никого нет. Да и «вполне созревших недотеп» Никешу и Владю авторы — как и Романов Воейкова — постоянно именуют «уменьшительно-ласкательно».
Романовские дворяне, задумав создать хотя бы отчасти оппозиционную организацию, неизбежно вспоминают о «еврейском вопросе», ведь истинные либералы непременно должны осуждать дискриминационное законодательство: «И тут Федюков, до того презрительно молчавший, вдруг спросил, почему среди членов нет представителей других наций, хотя бы евреев, которых в городе много, и потребовал, чтобы на повестку