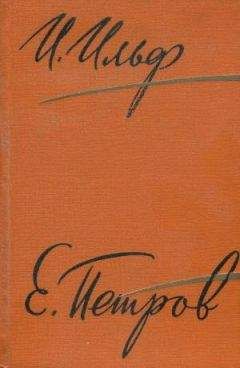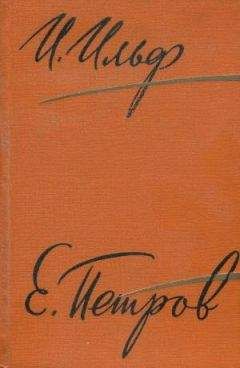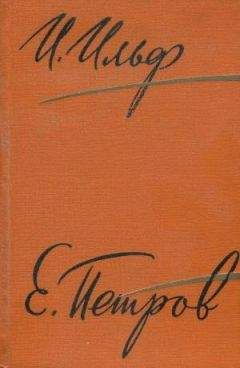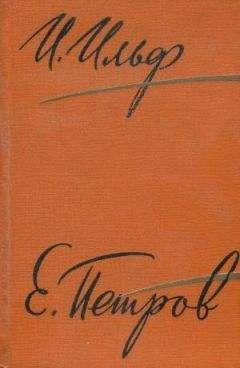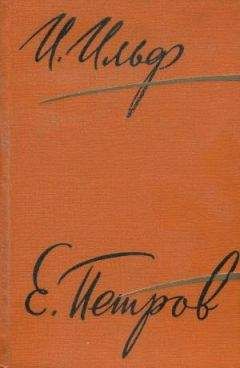Пильняк чрезмерно поглощен своими переживаниями писателя-путешественника: «Так из “Китайской повести” Б. Пильняка читатель узнает, когда он встает и обедает, как томится от жары, пьет шампанское и раскладывает пасьянс, а с другой стороны, как он обожает луну и пироги к празднику, как ощущает таинственность своего любезного “я” и спешит из “обаршиненной” действительности в некую ирреальность». Критик возмущен, что Пильняк не отразил сложной политической ситуации, сложившейся в Китае. Особенное возмущение вызвало финальное описание русского — не советского — пейзажа, сивмолизирующего ностальгию автора: «Такой картиной России кончается “Китайская повесть”. Ночь, волк, луна! А читатель полагал, что Б. Пильняк затосковал в Китае по советской стране, где рабочему и крестьянину живется легче и лучше, нежели в драконном царстве феодальных князьков, компрадорской буржуазии и “цивилизаторской” деятельности английских и японских империалистов». Не исключено, что Фриче, постоянно поминая в связи с Пильняком образ «луны», мстительно намекает на скандальную «Повесть непогашенной луны».
Статья товарища «Е» получила соответствующий отклик. Очень оперативно — 12 сентября — Троцкий и Зиновьев отправили в Политбюро, ЦКК и Коминтерн программную записку, в которой — наряду с «международным положением», политической борьбой внутри Коминтерна, конфликтами партийного руководства и оппозиции — отдельным пунктом обсуждалась «правдинская» передовица: «Партия ко всему привыкла в последнее время, но все же она несомненно надеялась на то, что партийный съезд, собираемый после почти двухлетнего перерыва, в очень сложной и трудной обстановке, при наличии внутри партии разногласий по крупнейшим вопросам, будет подготовлен так, как подготовлялись всегда в нашей партии съезды в аналогичных условиях. <…> Возмутительная передовица “Правды” от И сентября кладет конец этим естественным надеждам широких масс партии. Передовица проводит совершенно неслыханное ограничение прав членов партии на сознательное участие в партсъезде» [222].
Таким образом, официальная дата крымского землетрясения — 11 сентября — не ознаменовалась никакими официальными публикациями о стихийных бедствиях. Зато в «Правде» произошло политическое землетрясение: сталинцы обозначили свою позицию — никакой влиятельной оппозиции в партии нет и нечего ждать съезда, чтобы в этом убедиться. Соответственно, эпизод в романе «Двенадцать стульев» можно упрощенно интерпретировать примерно так: оппозиция прогнозирует глобальный крах советского государства и мировой революции, но — несмотря на потрясения в верхах — обычные граждане СССР живут своими проблемами, ни о чем подобном не заботясь. И в конечном счете они правы.
«В чем дело? — восклицает Остап Бендер. — Заседание продолжается!»
Проверяя основательность политического толкования крымского землетрясения, можно повторно обратиться к рассказу Зощенко. Получается, что это — рассказ о пьянице, не заметившем серьезных изменений, которые происходят в стране. И такого рода прочтение подтверждается финальными размышлениями повествователя:
«Автор хочет сказать, что выпивающие люди не только другие более нежные вещи — землетрясение и то могут проморгать.
Или как в одном плакате сказано: “Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять своего классового врага!”
И очень даже просто».
Более того, шествие сапожника в кальсонах по Ялте считают источником эпизода романа «Мастер и Маргарита» (последняя редакция), где директор Театра Варьете Степан Богданович Лиходеев переносится из Москвы в Ялту. В булгаковской Ялте, разумеется, никакого землетрясения нет, и действие романа развертывается в 1929 году, а не в 1927 году. Но Лиходеев, подобно Снопкову, — пьяница, он оказывается жертвой высших сил и материализуется в курортном городе в исподнем и без сапог. По мнению исследователя, Лиходеев «наказан прежде всего за то, что занимает не свое место. В ранних редакциях С.Б.Л. был прямо назван “красным директором”. Так официально именовались назначенцы из числа партийных работников, которых ставили во главе театральных коллективов с целью осуществления административных функций и контроля, причем “красные директора”, как правило, никакого отношения к театральному искусству не имели. В эпилоге “Мастера и Маргариты” С.Б.Л. получает более подходящее при его страсти к выпивке и закуске назначение — директором большого гастронома в Ростове» [223].
Если крымское землетрясение — символ политической встряски, а чудесное перемещение Лиходеева — превращенное приключение Снопкова, то Лиходеев — жертва политической перетасовки вроде той, которая в 1927 году грозила участникам оппозиции (при сравнительно благоприятном для них обороте).
Подобная интерпретация землетрясения подтверждается и таким неожиданным источником, как политические анекдоты 1920-х годов. Их отважно фиксировал украинский филолог С.А. Ефремов (и поплатился за это арестом). В частности, он записал 4 октября 1927 года: «Вопрос: кто терпеливее — люди или природа? Ответ: люди, ибо мы вот уж как десять лет терпим еврейскую силу над собой, а Крым на второй уж год проваливается после того, как его евреями колонизировали» [224]. Ближайший контекст анекдота — антисемитская реакция на продюсируемую государством организацию еврейских сельскохозяйственных поселений в Крыму, но — с учетом прочной ассоциации евреев и левой оппозиции — это и симптом общего отношения к происходящему в СССР.
Наконец, Андрей Белый в письмах Р.В. Иванову-Разумнику предложил апокалиптическое толкование крымской катастрофы, которое, благодаря отсылке к повести Булгакова «Роковые яйца», также имело политический оттенок: «…бывшие летом в Коктебеле рассказывали мне: перед землетрясением появились в огромном количестве сороконожки и сколопендры; из горных трещин спустились в долины прежде невиданные гигантские ужи (старожилы-одиночки рассказывали, что де видали таких, но им не верили); появились ужи до 10<-ти> и даже 12<-ти>…аршин (!!!) длины (и — соответственной толщины); т. е. не ужи, а — удавы, вместе с огромным количеством наводнивших местность змей; это уже… а la Булгаков…» [225].
Итак, землетрясение 1927 года устойчиво фигурирует в советской литературе как знак борьбы в высших эшелонах власти, но если Булгаков в «Мастере и Маргарите» показывает эту борьбу с точки зрения номенклатуры, то Ильф и Петров (равным образом Зощенко) — с точки зрения рядовых граждан советского государства.
От Старгорода к Черноморску
Если Москва в «Двенадцати стульях» — центр романного пространства, то Старгород — противоположный полюс, символ российской/советской провинции как таковой.
В обоих романах Ильф и Петров заставляют своих героев много ездить по стране, и смысловая оппозиция столица/провинция принципиальна для понимания текста дилогии. В Толковом словаре В.И. Даля «провинциял — живущий не в столице». Даль понимает под «провинциальным» все нестоличное, включая все территориальные единицы. Империя разделена на столицу (С.-Петербург, Москва) и провинцию. Слово употребляется не во множественном числе, а в единственном: не конкретные провинции российской империи, а провинция вообще.
Даль не указывает эмоциональные коннотации слова «провинция», но показательно, что слово «провинция» практически не встречается в названиях областных печатных органов: «Губернские ведомости», «Амур», «Волга», «Воронежский телеграф», «Нижегородский справочный листок», «Саратовский листок», «Одесские новости», «Одесский листок». Очевидно, что слово «провинциальный» воспринималось как эпитет, имеющий эмоциональную и стилистическую коннотацию. А значит, слово не годилось для научных или информационных изданий.
При советской власти территориальные термины императорской России были