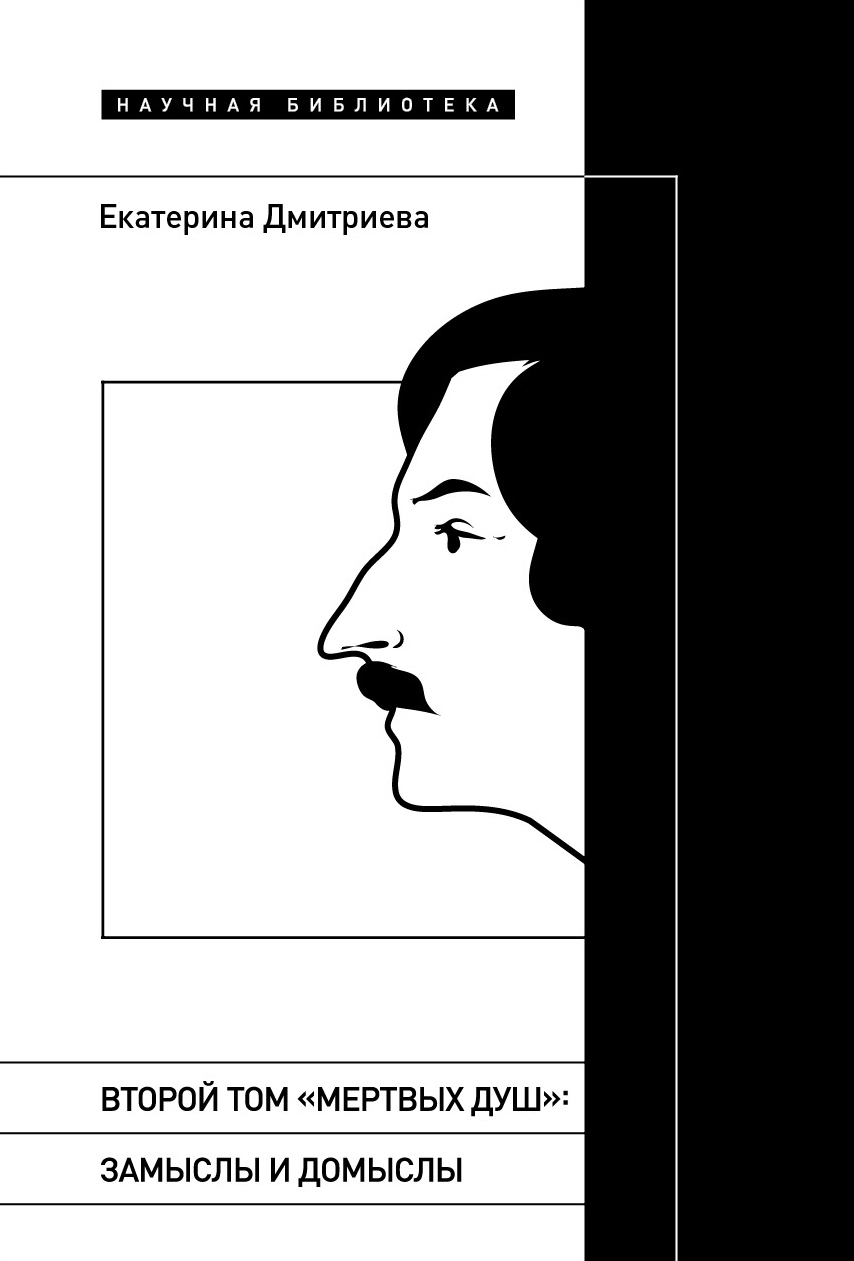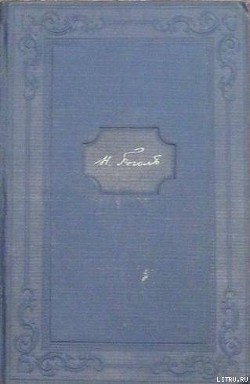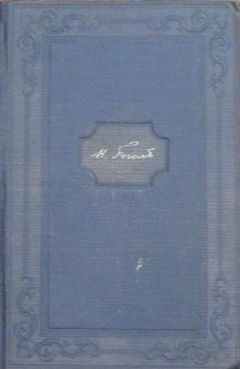соответствующие четырем этапам работы:
1) нижний слой, являющийся результатом перебеливания предыдущей рукописи (включая одновременную линейную и надстрочную правки);
2) так называемый промежуточный слой, возникший в ходе правки тех фрагментов нижнего слоя, которые впоследствии оказались отвергнутыми и в верхний слой не вошли (к нему относится, в частности, карандашная правка, часто на полях, не имеющая определенной прикрепленности к основному тексту);
3) верхний (наиболее сложный) слой в его первоначальном виде, возникший в результате разновременной правки нижнего слоя карандашом и чернилами;
4) верхний слой в его окончательном виде, возникший в результате более поздней точечной правки самого верхнего слоя. Этим слоям отчасти соответствуют и разные чернила: медные, переходящие в коричневые, железо-галловые, темно-коричневые (определяемые и как черные). При этом следует отметить, что на содержательном уровне правка, как уже упоминалось, не поддается столь однозначному расслоению в зависимости от характера чернил и использования карандаша. К тому же чернила, со временем меняющие свой цвет, зависят также и от субъективного видения исследователей, а потому в разных источниках обозначаются по-разному: так, Кулиш указывал на наличие у Гоголя «черных, бледных и рыжих чернил» [362]; Тихонравов выделял бледно-желтые (для самых старых поправок и дополнений), которые «обыкновенно зачеркиваются карандашом», и «черноватые чернила», которыми обводился карандаш [363]; в академическом издании советского времени выделялись коричневые и темно-коричневые чернила нижнего слоя, черные чернила, которыми обведены карандашные исправления, и рыжие чернила [364]. В последнем незавершенном академическом издании речь идет о коричневых, железо-галловых и темно-коричневых чернилах [365].
Не всегда как критерий для расслоения и еще менее для датировки может быть использован и почерк (мелкий, но аккуратный; крупный, аккуратный; торопливый, острый, небрежный), который более свидетельствует о беловом или черновом этапе работы, чем о ее хронологии и последовательности. При этом следует учитывать также и наблюдение Н. С. Тихонравова о свойственном Гоголю в последние годы его жизни крупном, твердом, разборчивом, как бы «детском почерке», который характеризует, в частности, правку заключительной главы второго тома [366].
Рукопись пяти глав второго тома «Мертвых душ», которую расшифровал впервые С. П. Шевырев и которая затем подверглась уже П. А. Кулишом более детальному расслоению (см. с. 207–208 наст. изд.), хранилась впоследствии у наследников Гоголя. В 1874 году она была продана ими в Московский публичный и Румянцевский музей [367]. В настоящее время хранится в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки вместе с обнаруженными позднее черновыми набросками ко второму тому «Мертвых душ», некоторые из которых проливают дополнительный свет на возможное продолжение поэмы [368].
Чем отличается верхний слой рукописи от нижнего
Правя перебеленный текст поэмы (нижний слой), Гоголь перерабатывает в дальнейшем в особенности следующие эпизоды.
В главе I подвергается правке описание деревни Тентетникова: Гоголь добавляет детализированное описание церкви, укрупняет пейзажные зарисовки, так что знаменитый пейзаж первой главы предстает отчетливо как бы из трех перспектив: со стороны церкви, сверху и из перспективы возвращающегося в деревню Тентетникова [369].
Усиливается также тема несоответствия образа жизни Тентетникова той природной жизни, которая его окружает, его неумение ценить эту жизнь (так, фраза «… пусть из него судит читатель сам, какой у не<го> был характер» перерабатывается в: «пусть из него судит Читатель сам, какой у не<го> был характер и как его жизнь соответствовала окружавшим его красотам» – верхний слой; фраза «И по обычаю всех честолюбцев понесся он в Петербург…» в верхнем слое получает дополнительную экспликацию: «И не взглянувши на прекрасный уголок, так поражавший всякого гостя посетителя, не поклонившись праху своих родител<ей>, по обычаю всех честолюбцев понесся он в Петербург…» – верхний слой).
Но самая радикальная правка в первой главе затрагивает описание характера директора училища Андрея Петровича. Если в нижнем слое еще присутствовала доля авторской критики («человек в своем роде необыкновенный, несмотря на некоторые причуды»), то в верхнем слое градус авторской оценки персонажа повышается. Так, и благодарность, и привязанность юного Тентетникова к наставнику описывается в верхнем слое как нечто «более сильное», чем «неугасимая страсть» «в безумные годы безумных увлечений». Представление директора о честолюбии как факторе прогресса («честолюбье называл он силою, толкающею вперед человека») сменяется апологией ума («Я требую ума, а не чего-либо другого…»).
С другой стороны, в верхнем слое Гоголь существенно упрощает характеристику Федора Ивановича, сменившего идеального наставника Александра Петровича. Если первоначально он еще был описан как «человек добрый и старательный, но совершенно другого взгляда на вещи», то впоследствии превратился в полного антипода наставнику, лишенного каких бы то ни было позитивных качеств.
Значительной правке подвергается и эпизод поступления Тентетникова на службу, что вызвало замечание Н. П. Трушковского, готовившего первое издание второго тома (см. с. 194 наст. изд.): «… поправлено и переделано столько раз, что даже трудно решить, что именно следует выбирать…» [370]. Исчезает упоминание о «каллиграфических уроках», которые берет Тентетников, прежде чем достать «место списывателя бумаг в каком-то департаменте»; «пишущие господа» в «светлом зале» департамента превращаются в «первых вельможей Государства», трактующих «о судьбе всего государства». Кроме того, в незаконченной правке верхнего слоя Гоголь превращает Тентетникова в столоначальника: «Вот он столонача<льник?> решит и строит дела…» (так. – Е. Д.). В подобном повышении своего героя в чине, очевидно, сказалось так и не доведенное до конца намерение учесть замечания Ю. Ф. Самарина, отметившего, что начало карьеры Тентетникова представлено Гоголем неточно в служебном отношении: получивший ученое образование и имеющий протекцию Тентетников должен был быть определен в столоначальники или в помощники, где от него не требовали бы «изящного почерка», «их не сажают за переписывание бумаг». Должность же столоначальника, объяснял Самарин, очень важная, так как именно он принимает решение, которому вышестоящие начальники лишь дают ход:
Итак, направление дела, если только посторонние обстоятельства и личные соображения не перебьют его хода, – почти всегда зависит от низших чиновников, т<о> е<сть> столоначальников. <…> Потому мне кажется, что впечатление, произведенное на Тентетникова его служебною деятельностию, не также совсем верно, именно потому, что самая эта деятельность представлена у вас слишком ничтожною и ограниченною <…>. Их мучит именно эта отрешенность от жизни, эта отвлеченность их деятельности [371].
Довод эстетического свойства в защиту петербургской жизни, который выдвигает дядя Тентетникова («пройдешь мимо каких-нибудь публичных красивых зданий»), сменяется в верхнем слое первой главы ироническим выпадом против «промышленной Европы» («…ну и газовое осве<щение>, промышленная Европа»). При этом обширный пассаж о самом дяде Тентетникова, который «во всю жизнь свою не ходил по другой улице, кроме той, которая вела к месту его службы», в