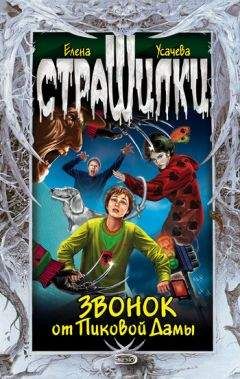связь, / Потом разрыв…» — не ее дело. Когда Молчалин заводит речь о службе в Москве: «И награжденья брать, и весело пожить», — Чацкий негодует:
Когда в делах, я от веселья прячусь;
Когда дурачиться: дурачусь;
А смешивать два эти ремесла —
Есть тьма искусников, я не из их числа.
Не замечается, что это прямой ответ на слова Екатерины II, которая призывала работать, «мешая дело с бездельем». Грибоедов вообще обижен именно на эту императрицу. Он помещает в ее эпоху сцены — падение на придворный паркет дяди-канцлера, чтобы посмешить государыню, — которые вовсе не характерны для екатерининского царствования, а сошли бы, скажем, для Анны Иоанновны, для двора попроще, понепритязательнее. Но в таком обобщении примета времени.
Как посравнить, да посмотреть
Век нынешний и век минувший:
Свежо предание, а верится с трудом;
Как тот и славился, чья чаще гнулась шея;
Как не в войне, а в мире брали лбом,
Стучали об пол, не жалея!
…………………………………………………………………….
Прямой был век покорности и страха.
Это о времени Екатерины II? Полно. Это вообще о вчерашнем дне. Молодой человек утверждает превосходство своей эпохи и объединяет тетушку, которая держится «фрейлиной Екатерины I», с «сужденьями из забытых газет, времен очаковских и покоренья Крыма». Перед нами растянутое прошлое — новейшая русская история от Петра I до Екатерины II, как в кишиневской заметке Пушкина, как в агитационных песнях Рылеева — Бестужева. Наконец, как в надписи на Медном всаднике, где императрица сама слила себя с пращуром.
В ее время сильных мужчин, таких как Орловы или Потемкин, не шокировал тот факт, что на престоле сидит сильная женщина. Их пугал слабый император. В первой четверти нового столетия боялись уже «женщину» как таковую и не принимали «немку». Великому князю Николаю Павловичу в 1817 году, представляя невесту своим офицерам, пришлось почти извиняться: «Это не чужая приехала к нам, это дочь вернейшего нашего союзника».
После победы над Наполеоном и выхода «Истории государства Российского» Карамзина русские словно позволили себе самоуважение. Вслед за ним родились и требования, иногда смешные. Пушкин записал в дневнике 1833 года: «Именины государя… Дамы представлялись в русском платье. На это некоторые смотрят как на торжество. [генерал-лейтенант И. Н.] Скобелев безрукий сказал Волконской: я отдал бы последние три пальца для такого торжества» [269].
Старая княгиня сначала не поняла его. Между тем в отчетах III отделения сказано: «6 декабря 1833 года появились впервые во дворце дамы наши и Сама Государыня Императрица в национальном платье и русском головном убранстве. Независимо от красоты сего одеяния оно по чувству национальности возбудило всеобщее одобрение. Многие изъявляют желание видеть дальнейшее преобразование и в мужских наших нарядах, и, судя по общему отголоску, можно наверное сказать, что таковое преобразование сближением нынешних мундиров к покрою наших бояр прежнего времени было бы принято с крайним удовольствием» [270].
Ушибленное место всегда берегут. А потому есть основание считать, что повышенное мужское внимание к данному вопросу говорит об ущемленности. Михаил Лунин заметил: «Мы все ублюдки Екатерины II».
«Нечто обворожительное»
Общество того времени в голос не одобряло появления на престоле очередной немки. Именно такое отношение не позволяло всерьез претендовать на корону и вдовствующей императрице. В рассуждениях о гибели Павла I то и дело повторяется мысль о том, что трон хотела получить его супруга Мария Федоровна. Ее образ вроде бы не связан с «Пиковой дамой», но если учесть, что сборы от продажи карт в России шли на благотворительные заведения, которыми деятельно управляла именно она, то окажется, что старшая женщина в царском семействе вовсе не так далека от повести, как считалось.
По уверениям одного из руководителей заговора Леонтия Леонтьевича Беннигсена — императрица «пыталась строить из себя Екатерину Великую» и даже заявила: «Я хочу царствовать!» — на что получила в ответ: «Мадам, не ломайте комедию!» [271] Из этого рассказа вышло целое научное расследование: а не старалась ли Мария Федоровна захватить престол и во время междуцарствия 1825 года? [272] Но был ли Беннигсен беспристрастен?
По словам графини Головиной, в роковую ночь «Императрица Мария… побежала в апартаменты своего супруга; Беннигсен не пустил ее.
— Как вы смеете меня останавливать? — говорила она. — Вы забыли, что я коронована и что это я должна царствовать?
— Ваш сын, Ваше Величество, объявлен императором, и по его приказу я действую» [273].
Вот и ответ новой эпохи на женские притязания. «Императрица, под влиянием охватившего ее волнения, пыталась, однако, не щадить никаких мер воздействия на войска, — сообщал друг молодого императора Адам Чарторыйский, — чтобы добиться престола и отомстить за смерть своего супруга. Но ни наружностью, ни характером не была способна возбудить в окружающих энтузиазм и добровольное самопожертвование. Ее отрывистые фразы, ее русская речь с довольно сильным немецким акцентом не произвели должного впечатления на солдат, и часовые молча скрестили перед ней ружья» [274].
А вот Елизавета Алексеевна, проведшая со свекровью всю ночь после убийства Павла I, ни слова не написала о желании Марии Федоровны занять престол. Хотя не скрыла других, вовсе не украшавших царицу-мать деталей: «Императрица сошла ко мне с помутившимся разумом… она [осталась] перед закрытой дверью, ведущей на потайную лестницу, разглагольствуя с солдатами, не пропускавшими ее к телу государя, осыпая ругательствами офицеров, нас, прибежавшего доктора, словом — всех, кто к ней подходил (она была как в бреду, и это понятно)» [275].
Видимо, разговора с солдатами было достаточно для подозрений. Цесаревич Константин рассказывал, что, войдя в комнаты брата, видел тот момент, когда плакавшему Александру «сообщили о притязаниях… матери». Молодой государь «воскликнул: „Боже мой, этого еще недоставало!“ Он приказал [Ф. А. фон дер] Палену пойти к ней, образумить ее и заставить отказаться от этой идеи, которая казалась такой странной и дикой в этот момент» [276].
После гибели Павла I Мария Федоровна взяла на себя организацию всей официальной, публичной жизни двора, к которой всегда чувствовала вкус. Подданные благоговели при одном взгляде на августейшую вдову. «Увидел я настоящую императрицу… — вспоминал о встрече с ней Вигель. — Врожденная милость светилась в очах этой твердой жены, красота прежних лет все еще проглядывала из-за морщин… величавый голос ее не терял благозвучия от картавого слегка произношения слов, и в старости ее находил я нечто обворожительное» [277].
Не принимая на себя представительских функций, императрица Елизавета все-таки оказалась шокирована поведением свекрови: «Едва прошло шесть недель траура, она стала появляться в публике и делала из этого большую заслугу, постоянно повторяя императору, что