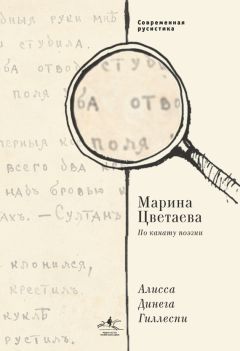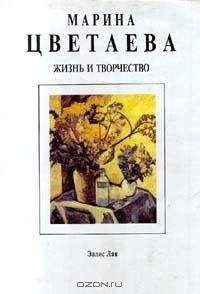которое является тайной стороной запрета и вынуждено говорить искаженно – «двусмысленно» [17][Turner 1987: 137].
На протяжении всей пьесы, начиная с ночи совершения преступления, Макбет неоднократно призывает свои глаза не признавать убийство, которое совершили его руки, а звезды просит не видеть того, что свершилось, говоря словами леди Макбет, под «пологом мрака» (I.5) [18]. Например, он говорит:
Не озаряй, высокий пламень звездный,
Моих желаний сумрачные бездны!
Пусть глаз не видит руку Но в свой час
Да будет то, чего страшится глаз
(1.4).
Эти слова произносятся до убийства, а после: «Чьи это руки? Ха! Они глаза мне / Рвут прочь!» (II.2). Эти и подобные слова Макбета свидетельствуют о том, что он сам заразился ведьминским языком раздора и что вся вселенная, какой он ее видит, тоже им заражена. Преступление разрушает цельность мира на уровне как микрокосма, так и макрокосма.
И все же Макбет, несмотря на совершенные убийства и незаконный захват трона, – не сам по себе источник зла, но причастный ему посредник, и именно это делает его трагическим героем, а не злодеем, недостойным сочувствия. И действительно, в пьесах Шекспира в целом именно это сочетание пассивности того или иного рода с ошибочным или неудачно рассчитанным по времени действием составляет суть трагедии, и советские литературоведы слишком упрощают, утверждая, будто шекспировские герои вовсе не пассивны [19]. Макбет и сам – жертва двусмысленности ведьминского языка, ведь он трактует их пророчества в переносном смысле и не осознает обманчивой буквальной силы слов. Ему сообщают, что «Никто из тех, кто женщиной рожден, / Не повредит Макбету» и что «От всех врагов Макбет храним судьбой, / Пока Бирнамский лес не выйдет в бой / На Дунсинанский холм» (IV. 1), и он демонстрирует последние остатки благородства души, или «благостного млека» [20] человечности, присущей скорее Дункану и Малкольму, тем, что истолковывает эти слова наивно.
Метонимическая власть Шекспира-автора, который использует Макбета, чтобы очистить целое, в конечном счете оказывается мощнее метонимической власти ведьм, пытающихся через Макбета заразить целое, – и чары искусства побеждают черную магию. Таким образом, Макбет сам распадается на части параллельно распаду его королевства. Когда распад завершится, можно будет установить новый порядок, который при этом окажется продолжением старого порядка, прерванного Макбетом, и тем самым соединить прошлое и будущее. Этот новый порядок возможен благодаря изначальной противоречивости Макбета, которая способствует его падению не меньше, чем неприкрытые интриги ведьм: он ослеплен жаждой власти и параноидальным стремлением ее удержать, его также мучает пророчество о том, что Банко «сам – не король, но пращур королей» (1.3.67), при этом, как ни странно, он в своем паническом состоянии так и не осознает, что, поскольку у него самого нет наследника, это пророчество, даже если оно исполнится, не обязательно подразумевает отстранение от власти его самого. Истинное уничтожение двусмысленностей в пьесе требует возвращения власти прямой, непрерывной, единственной линии престолонаследия, которая не допускает двойственности или расщепления. Лишь когда деревья Бирнамского леса вырваны из земли и Макбет убит тем, кто не «женщиной рожден» (IV. 1), – иными словами, лишь когда язык ведьм воплотится в реальность и лишится своей коварной магии, можно вернуть королевство к порядку, явленному в единственном королевском роде.
Мотив правильного, гармоничного, движущегося вперед времени выражен в пьесе через метафору сева и роста. В этой связи Банко спрашивает ведьм, дано ли им «провидеть сев времен / и знать, чье семя всхоже, чье – не всхоже» (1.3), а Дункан говорит Макбету: «Начав тебя растить, я позабочусь / О пышном цвете» (1.4). Род Макбета бесплоден, склонен к саморазрушению и плода не принесет; к финалу пьесы он говорит о себе как об умирающем растении: «Я жил достаточно: мой путь земной / сошел под сень сухих и желтых листьев» (V.3), а единственный способ излечить его жену от мучений – «из памяти с корнями вырвать скорбь» (V.3). Более того, буквальное вырывание с корнем деревьев Бирнамского леса расчищает место для свежей, здоровой поросли. После того как Макбета убивают в бою, Малкольм завершает пьесу и сообщает ей единство в финальном монологе, где объясняет, «что надлежит со временем взрастить» (V.8). Таким образом, он возвращает державу к правильному порядку путем объединительного расцвета королевского рода, способного структурировать реальность, связать прошлое с будущим и земное с божественным, объединить множественность в единой фигуре, олицетворяющей целое:
…И все иное,
Что нам поручено, – даст Бог, мы честно
Исполним в меру, в срок и где уместно.
Спасибо всем, и всех мы просим в Скон,
Где венценосцем мы взойдем на трон
(V.8).
Это восстановление королевской династии со связующей, объединяющей силой ее языка (в сжатом виде выраженной в употребляемом Малкольмом местоимении «мы») составляет, согласно воззрениям Шекспира на историю, суть целительной структуры монархии, которая в этом катарсическом финальном монологе очищена от демонического и опасного обаяния двойственности и вновь направлена на прямой и чистый путь.
Пьеса «Ричард III», как и «Макбет», построена по схеме конфликтующих этических и языковых сил, которые в итоге примиряются через ритуал драматической структуры и трансформируются в новый порядок, свободный от двусмысленности. «Ричард III» – историческая пьеса, а не трагедия, и потому в каких-то аспектах структурно отличается от «Макбета». В «Ричарде III» герой не разрывается внутренне между силами добра и зла и не является объектом манипуляции для обеих, но, скорее, представляет собой воплощение зла и, по словам Тиллиарда, «колеблется между правдоподобным, мотивированным злодеем и символом дьявольской силы – психологически абсурдным, однако полезным с точки зрения драматургии» [Tillyard 1944: 210]. В этой пьесе Ричард действительно выступает как исключительно активная сила, и, следовательно, его конец едва ли переживается как трагедия; единственные человеческие черты, способные расположить публику к Ричарду, – его острое и едкое чувство юмора, равно как и блестящий ум. И то и другое выражено языковыми средствами: через каламбуры Ричарда, его безжалостную иронию, использование двойных значений, понятных зрителям, но не замеченных или не понятых его жертвами.
Таким образом, Ричард в этой пьесе в каком-то смысле выполняет роль ведьм, о чем свидетельствует и радость, которую он испытывает по поводу своего же коварства, и лукавая, скользкая речь – главное его оружие. Дирижируя собственной судьбой и судьбами окружающих, он переходит все границы морали. В структуре драмы на этот переход границ указывает то, что он выходит за пределы своей роли, чтобы выступить еще и в роли рассказчика, обращаясь