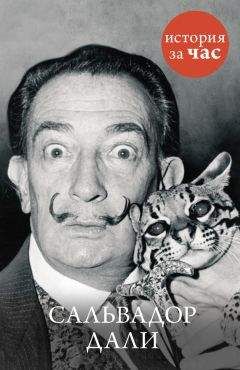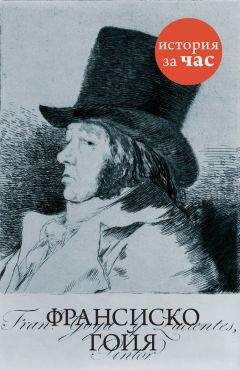– царица, переодевающаяся обычной придворной.
– явление внехудожественной реальности, давшее основу для возникновения художественного образа в произведении.
Восстание Пугачева, Наполеоновские войны, революция 1917 г., Великая Отечественная война – прообразы в художественных произведениях российских авторов. Все, казалось бы, просто, но есть некоторые нюансы.
В 1912 г. в северной части Атлантического океана затонул пароход «Титаник». В 1915 г. Бунин написал рассказ «Господин из Сан-Франциско», в котором описан пароход «Атлантида». Само собой напрашивается, что прообразом послужил «Титаник», хотя в рассказе пароход не тонет, наоборот, продолжает курсировать по океану. Однако целый ряд моментов свидетельствует за предположение о прообразе: во‐первых, заглавие. Во-первых, так назывался мифический континент из диалога Платона, затонувший в далеком прошлом, во‐вторых – гибель «Титаника» произошла в Атлантике. И если мы усматриваем здесь прообраз, то в самом тексте возникает мотив обреченности и самого парохода, и пассажиров, а ведь это совокупный образ-символ прекрасной аристократической эпохи, которой суждено было рухнуть в России спустя два года после создания бунинского шедевра.
Иногда прообраз и прототип употребляются как синонимы. Допустимо, но лучше разграничивать.
– создание автором таких образов предметного мира, деталей и подробностей, которые не разрушали бы хронотоп художественного произведения и вместе с тем соответствовали бы внеэстетическому аналогу.
Проблема бытового правдоподобия довольно остро стоит в связи с поэмой «Мертвые души». С одной стороны, мир Гоголя предметен:
Покамест ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких неделей, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярку жареную, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам <…>
Ну разве что насчет «нескольких неделей» – все же гипербола, т. е. художественное преувеличение…
Однако предметность эта периодически начинает незаметно преодолевать границы реализма.
Какие бывают эти общие залы – всякой проезжающий знает очень хорошо: те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими, ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам-шест и сам-сем испивать свою известную пару чаю; тот же закопченный потолок, та же копченая люстра со множеством висящих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу; те же картины во всю стену, писанные масляными красками; словом, все то же, что и везде; только и разницы, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал.
И гротесковый копченый потолок, утративший приставку за– и оттого кажущийся съедобным, и гиперболы Гоголя – количество чайных чашек, особенность телосложения нимфы – выводит гоголевские сочинения к точке пересечения с абсурдом.
Фантастическая литература (фантастика)
– совокупность сочинений, хронотоп которых мало или вовсе не связан с существующим во внеэстетической действительности на момент написания произведения пространством-временем.
Фантастической литературе предшествовал – и развивался одновременно с нею – фантастический реализм, при котором в действие включаются ирреальные, сверхъестественные мотивы за пределами чувственного опыта. В романтизме они также присутствуют, хотя и не доминируют, и есть основание рассматривать фантастический реализм как литературное течение в русле романтизма. Сегодня он разворачивается параллельно научной фантастике.
В научной фантастике, как правило, чувственный опыт персонажей как раз совпадает с читательским. Но получен он в обстоятельствах, не имеющих аналогов во внеэстетической реальности (трансгрессия, межпланетные перелеты, жизнь на других планетах и др.).
Созданию возможных космических миров, характеризующихся правдоподобием, способствует художественная логика: зерно образа или мотива, особенность хронотопа развивается центростремительно, исходя из ее потенциала. В литературе этого толка вымысел и мимесис выступают в согласии, поскольку вымышленные обстоятельства развиваются логически, а мимесис выражается в трактовке человеческих отношений, внутреннего мира героев, широкой области их взаимодействий.
Именно поэтому фантастической эта литература может быть названа только исходя из нескольких аспектов помимо хронотопа – это особенности художественного мира, детали, т. е. того, что относится к области описания. Все остальное представляет собой рассказ о человеке, анализ его деятельности – такой же правдивый, как и в произведениях любой другой направленности.
Гуманизм русской литературы
– внимательное, сочувственное отношение ко всему живому, образующее главные эстетические ценности и в перспективе – социальную норму.
В произведениях русской литературы нередко повествуется о событиях, вызывающих тяжелые переживания и мучительную рефлексию. Таков, например, рассказ Тургенева «Муму». Прообраз барыни – родная мать писателя. Вопрос: нужно ли детям читать произведение с таким содержанием – хозяин по прихоти сумасбродной барыни собственными руками топит свою собаку?..
Ответ – да, нужно. Чтение должно сопровождаться соответствующей интерпретацией. Эстетический опыт, полученный в результате чтения, травматичен, но в значительно меньшей степени, чем когда нечто аналогичное происходит в жизни. Дети имеют право воспринять на материале художественной литературы основные этические ценности.
Нравственный пафос русской литературы лучше всего выразил, наверное, Гончаров устами своего заглавного героя, Обломова. В самом начале романа к нему приходят разные посетители, один из них – литератор-обличитель, по-прежнему – будто не отошла в прошлое эпоха классицизма – уверенный, что литература должна клеймить общественные пороки. С такой точки зрения заклеймить – значит улучшить нравы… И здесь тихий Илья Ильич внезапно воспламеняется.
– Что ж еще нужно? И прекрасно, вы сами высказались: это кипучая злость – желчное гонение на порок, смех презрения над падшим человеком… тут все!
– Нет, не все! – вдруг воспламенившись, сказал Обломов. – Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! – почти шипел Обломов. – Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой, – тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову… – сказал он, улегшись опять покойно на диване. – Изображают они вора, падшую женщину, – говорил он, – а человека-то забывают или не умеют изобразить. Какое же тут искусство, какие поэтические краски нашли вы? Обличайте разврат, грязь, только, пожалуйста, без претензии на поэзию.
– Что же, природу прикажете изображать: розы, соловья или морозное утро, между тем как все кипит, движется вокруг? Нам нужна одна голая физиология общества; не до песен нам теперь…
– Человека,