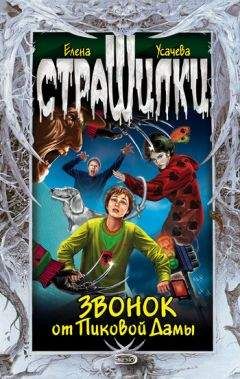Тарквинию? быть может, это охладило бы его предприимчивость?» И в конце концов «Брут не изгнал бы царей, и мир, и история мира были бы не те» [352].
Предприимчивость восставших была охлаждена «пощечиной» молодого императора. Вместо «атанде» получилось «атанде-с». Как Нулин не способен овладеть женщиной, так и члены тайных обществ не способны взять власть. У Нулина говорящая фамилия — ничто, ничтожество. При всей любви к друзьям-заговорщикам, при всей жалости после приговора поэт не считал, что они в силах на что-то, кроме «витийства грозного». Ездят к девочкам побесить «добрую старушку», а до дела не добираются. Когда же добрались, получили оплеуху, на которую способна даже уездная барынька. Нельзя творчески оплодотворить реальность, не прикасаясь к ней. Инициалы хозяйки имения Натальи Павловны — Н. П. — совпадут с инициалами нового государя Николая Павловича. Если учесть, что все эти смыслы проступили в поэме позже, а в момент ее написания поэт не знал о готовящемся выступлении, придется признать либо провидческий дар, либо «странные сближения».
Итак, «молодые люди» из черновика ждут мятежа. Справедливо предположить, что его описание так или иначе отпечаталось на страницах окончательной редакции.
Уже первая глава содержит множество обмолвок, отсылающих к тайным обществам, исходу восстания и судьбе самого Пушкина. Первые же строки уведут нас от конногвардейца Нарумова на квартиру Кондратия Рылеева в доме Российско-американской компании, где жил и ее глава, старый сенатор Николай Семенович Мордвинов, который просто не мог не знать, чем занят его управляющий. Там декабристы собирались в ночь перед выступлением и в ночь же после него, чтобы договориться о показаниях. Там же был избран «диктатором» Сергей Трубецкой.
«Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом, прочие, в рассеянности, сидели перед пустыми своими приборами». Как и в черновике внимание обращено на аппетит собравшихся. Охотно едят выигравшие — те, кто победил. А вот их противники едва глотали до восстания, теперь же, когда они остались ни с чем, и вовсе сидят перед пустыми тарелками.
Вспомним, какими словами молодая графиня в Париже требовала у мужа денег: «Думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь и что есть разница между принцем и каретником». В этой фразе слышится знаменитое замечание Федора Васильевича Ростопчина о декабристах: «Во Французской революции вздумали восстать, чтобы стать вместо князей и графов. У нас князьям и графам захотелось в сапожники и портные» [353].
Пушкин добавил к ней свое видение: «долг долгу рознь», «есть разница между принцем и каретником». Долг принцев, князей и графов не позволяет им действовать, как каретникам, сапожникам и портным. Долг дворянина поддерживать государя, а не бунтовать. Эта тема ярко будет раскрыта в «Капитанской дочке».
Кроме того, именно во фразе графини деньги впервые уподоблены долгу чести в самом его прямом, не финансовом смысле. Поэтому и в дальнейшем, говоря о вожделении к богатству, автор будет подразумевать нечто иное.
Одного приведенного высказывания «бабушки» было бы достаточно, чтобы оно бросило отсвет на остальной текст и заставило рассматривать его с позиций отгремевшего декабристского выступления. Но Пушкин идет дальше. Графиня «в оправдание свое сплела маленькую историю» и «отыгралась совершенно».
Это уже припоминание о собственных письмах Пушкина новому императору и Жуковскому с просьбой, наконец, прекратить его ссылку. А потом о разговоре с царем, в котором поэт «сплел маленькую историю» и отыгрался, то есть оправдался совершенно.
«Он был в отчаянии», — сказано о Чаплицком. Но это же можно сказать и о самом Пушкине, когда фельдъегерь доставил его в Москву. «Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалилась», но «взяла с него слово впредь уже никогда не играть». Император был строг к выходке «молодых людей» на Сенатской площади, но над поэтом как-то сжалился, взяв с него слово «исправиться». В результате свидания с царем Пушкин «отыгрался и остался еще в выигрыше».
«Русские романы?»
Во второй главе намеков еще больше. Томский хочет представить бабушке своего приятеля Нарумова. Возникает диалог:
«— …Вы его знаете?
— Нет. Он военный или статский?
— Военный.
— Инженер?
— Нет! кавалерист…»
Назовем рода войск, которые представляли претенденты на престол во время междуцарствия. Цесаревич Константин Павлович, управлявший Царством Польским и живший в Варшаве, был кавалеристом. Великий князь Николай Павлович — военным инженером, как Германн. Даже впоследствии, став императором, он любил повторять: «Мы, старые инженеры» — и сам проверял чертежи, например, для восстановления Петровского замка в Москве или для строительства железной дороги из Петербурга до старой столицы, оставляя на них свои пометы. Чаще всего: «Сносно». В противном случае лично переделывал работу.
Именно Николая Павловича к моменту смерти Александра I почти не знали. Что оборачивалось против кандидата. «Для вашей собственной славы погодите царствовать, — сказал 12 декабря явившийся к великому князю Яков Иванович Ростовцев, адъютант командующего гвардейской пехотой. — Вы молоды. Вас плохо знают» [354]. Ту же характеристику подтверждает и Бенкендорф: «В приглушенных разговорах наследником престола называли великого князя Николая, но его не любили, так как он вечно был занят военными делами и демонстрировал суровость, которую считали свойством его души и которая в общественном мнении затмевала качества его разума». Еще ярче эта мысль звучит в 1829 году, когда Николай I решил, преодолевая смутное нежелание брата Константина, короноваться в Польше: «Его не знали, его боялись, на него надеялись…» [355]
Давно пора заметить, что в текстах Пушкина тут и там рассеяны обмолвки, близкие к воспоминаниям Бенкендорфа. Вероятно, Александр Христофорович при нечастых встречах с поэтом мог обронить что-то и о Хозяине, пойманное и оставшееся на страницах. Например, подавая на высочайшее рассмотрение в 1828 году «Друзьям», — последние буквально заклевали поэта за переход в стан «врагов», — Пушкин имел шанс услышать от главы III отделения по поводу царя: «Его не знают, его боятся…» Император счел невозможным печатать такую откровенную похвалу, но позволил под рукой распространять текст [356].
Вернемся к «Пиковой даме». В продолжение разговора графиня просит внука: «Пришли мне какой-нибудь новый роман, только не из нынешних… То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери своей и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!» Томский интересуется: «…Не хотите ли разве русских?» Старушка удивлена: «А разве есть русские романы?» Впоследствии, когда Лизавета Ивановна читает ей одну из присланных от князя Павла книг, графиня восклицает: «Что за вздор!»
Слово «давил» сразу отсылает к агитационным песням: «Как в России царей давят». Герой романа не должен «давить ни отца, ни матери своей» — то есть не быть виновным в