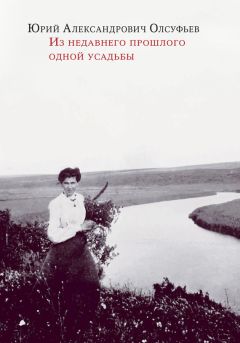бы очень довольны учителя в Киевской гимназии.
Рассказав о внезапной перемене отношения к Пушкину, Лифарь продолжает громоздить банальности и клише:
«Передо мной открылся сияющий свет поэзии»; «Я перечел его всего, жадно впитывая в себя музыку его стихов, заставлявшую меня неметь от восхищения. Чем дальше я читал, тем больше он становился для меня – “своим”»; «Великий и гениальный» Пушкин лицеиста стал моим самым дорогим и чудесным товарищем, и я увидел, насколько с ним богаче и радостнее жизнь. Понятно, что больше я не мог расстаться с ним. И ему я останусь верным всю свою жизнь – Пушкину, моему руководителю и наставнику [Лифарь 1937в: 13].
Лифарь, жизнь которого, надо полагать, резко переменилась после того, как он осознал, что поэзия важнее и долговечнее алгебры и что литература может глубоко трогать душу и заполнять пустоты повседневного существования, тем не менее продолжал писать о Пушкине и поэзии в той приторной манере, которая характерна для музейных экскурсоводов и учителей начальных классов. В сравнении с этим пафосом более привлекательной кажется простота написанной в 1859 году и ставшей крылатой фразы Григорьева «Пушкин – наше всё». Григорьев избежал хвалебных прилагательных («великий», «могучий», «русский», «всемирный») и существительных («вождь», «наставник», «создатель», «источник» и даже слова «поэт») и заменил похвалы своего рода универсальным приложением «всё».
Случай Лифаря, как нам кажется, заслуживает внимания, поскольку в его сочинениях представлено несколько способов писать и размышлять о Пушкине. На публицистику Лифаря, безусловно, повлияло полученное им образование и воспитание, его любительский статус в литературном мире, вкусы публики, для которой он писал. Однако при всем том эссе «Сияющий свет поэзии» оказалось примером литературной пошлости. Это сочинение несомненно вызвало бы раздражение у Набокова [214]. Замысел Лифаря ясен: он хотел сопоставить по контрасту пустые разглагольствования о Пушкине, которым его учили в школе, и более глубокие, действительно прочувствованные суждения, на которые он стал способен в 1937 году. Как ни странно, великий танцовщик не замечал, что его более поздние суждения оказывались столь же пресными, как школьные сочинения.
Более честным и искренним выглядит почти не высказанное вслух, как бы заключенное в скобки уважение к Пушкину, выраженное в одном из интервью Набокова. В ответ на вопрос «Почему вы так страстно увлечены Пушкиным?» писатель ответил:
Дело тут не только в Пушкине – конечно, я нежно его люблю, он величайший русский поэт, об этом не может быть двух мнений, – и все же речь идет о сочетании волнения, испытываемого при нахождении верного пути, и определенного подхода к реальности, к реальности Пушкина, посредством моих собственных переводов [Nabokov 1990: 13] [215].
В этом замечании Набоков определяет свой особый способ подхода к образу Пушкина – через переводы.
Подход Набокова, знатока и ценителя творчества Пушкина, был, по сути, плодом интеллектуальных усилий, в то время как Лифарь дал пример сугубо эмоционального восприятия. Превратив Пушкина в объект поклонения и созерцания для «обычного» человека, Лифарь не создавал модель или образ положительного героя. Его представления о Пушкине были скорее агиографическими, чем биографическими, и в них заключалось довольно поверхностное «полезное прошлое», резко отличавшееся от более значимого прошлого, которое находили Тынянов, Ходасевич и Булгаков. Более того, Лифарь, всегда рисовавший собственный образ в рамке пушкинского портрета, в итоге предложил модель, в центре которой находился он сам. Если другие авторы пытались противостоять Пушкину, перемещая историческую личность в настоящее, то Лифарь относился к Пушкину исключительно эмоционально, оставаясь поверхностным эгоцентриком.
В эссе, предназначенном для глянцевого журнала «Для Вас», Лифарь пускался в воспоминания и самовосхваления в связи со своим участием в Пушкинском зарубежном комитете и пушкинских торжествах 1937 года. В публикациях Лифаря можно увидеть два разных аспекта его личного отношения к Пушкину. В первом случае он пишет для широкой аудитории и размышляет о неприязни школьника к «великому национальному поэту»; здесь он выступает в роли обычного молодого человека, чья ненависть к школьной зубрежке, как это и бывает, сменяется в зрелые годы открытием поэта. В противоположность этому в книге «Моя зарубежная пушкиниана» Лифарь пытался взять себе в союзники самых авторитетных деятелей русской культуры – Шаляпина, Рахманинова, Ходасевича, – чтобы показать читателю «исполненную вдохновения» модель восприятия Пушкина. Нас не должно смущать, что Лифарь сыграл две противоречащие друг другу литературные роли. Он был хорошим рекламщиком и потому оказался центральной фигурой в процессе «продвижения» Пушкина эмигрантами в 1937 году в Париже и Европе. И в качестве рекламщика, уверенного, что его клиенту необходимо «стать» всемирно известным поэтом, Лифарь пытался одолжить собственный блеск и умение подать себя в качестве балетной знаменитости своему менее известному товарищу.
В течение юбилейного года в Советском Союзе и в городах Европы, Египта, Китая и Соединенных Штатов прошли выставки, были выпущены и отрецензированы издания Пушкина и о Пушкине; была сопоставлена статистика посетителей мероприятий, читателей и тиражей. Ученые, писатели и обычные люди посещали концерты, чтения и «торжественные заседания», посвященные памяти поэта. Еще одним явлением общественной памяти стал «наш Пушкин» в карикатурах. В харбинском издании «Рубеж» в традиционной рубрике карикатур Vita (псевдоним В. Л. Загибаловой-Гулиной) появляется комикс «Мы и Пушкин…»:
С младенческих лет витал перед нами образ Пушкина и его няни…
В раннем детстве ходили мы к синему морю: – мечтая о золотой рыбке…
Юнцами-гимназистами бредили о Руслане…
В старших классах мнили себя Онегиными…
В студенчестве совсем теряли голову и разводили рассказы о декабристах…
Что-ж? Разве не естественно, что, оказавшись в изгнании, мы вновь мечтаем о золотой рыбке?
[цит. по: Хисамутдинов 2019:142].
Эта золотая рыбка, эта наивная надежда на исполнение желания, после чего возродится прежняя Россия, по которой так тосковали эмигранты, постоянно возникала в их публикациях. Независимо от того, мечтали они об уничтожении советской власти или о чудесном возвращении в новую страну, где сольются воедино обе России, эмигрантские авторы связывали с пушкинским юбилеем будущее своей родины и русской культуры. Пушкин стал для них «золотой рыбкой», средством, с помощью которого можно исполнять желания. Более того, для эмигрантской общины Пушкин в 1937 году оставался символом – общим знаменателем для русских культурных праздников за рубежом, знаком единства русской диаспоры, а также своего рода территорией, которую нужно было отвоевать в культурной войне с советской властью. Наконец, важнейшая роль Пушкина состояла в том, что через его посредничество русские эмигранты сохраняли духовное родство с русскими, оставшимися по другую сторону границы.
В статье о советских пушкинских торжествах журналист-эмигрант, скрывшийся под акронимом «П.