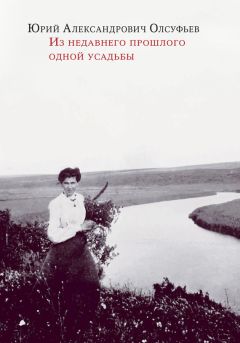А.», цитировал письма советских граждан в ответ на вопрос: «За что они любят Пушкина?» – «За то, что это сама жизнь». – «За то, что живой» [П. А. 1937:140–141]. Этот миф о «живом» Пушкине, распространявшийся во время 100-летней годовщины со дня его смерти, был исключительно важен для эмигрантской общины – и не только потому, что Пушкина требовалось отвоевать у Советской России: через двадцать лет после революции русским изгнанникам важно было верить, что все еще существует
нечто, способное объединить их с теми, «кто остался в плену» [Пушкинские дни в эмиграции 1937:137]. Как ни странно, эмигранты и советская власть были действительно похожи в своем соперничестве за «обладание» Пушкиным. К 1937 году поэт стал центральной фигурой, помогавшей русским за границей осознавать свою культурную самобытность, и одновременно средством, с помощью которого СССР пытался придать себе историческую и культурную легитимность. Обе стороны закончили поиски «своего Пушкина», создав образ, который и объединял, и разделял русских по всему миру.
Независимо от того, кто победил в соревновании за культурную легитимность, пушкинские торжества не обогатили русскую литературу. Если проект Лифаря – его выставка, статьи и пушкинские публикации – оказался успешнее, чем попытки Булгакова, Ходасевича и Тынянова, то это произошло по той причине, что Лифарь обходил или вовсе игнорировал вопросы, которые решали эти писатели. Лифарь не был литератором, и в его занятиях Пушкиным не было поставлено на карту ничего серьезного. Он обходился клишированными эмоциями и фразами, потому что не имел реальной связи с литературным прошлым и, следовательно, не мог чем-то улучшить это прошлое или настоящее.
Три писателя, которым в основном посвящено это исследование, обращались к прошлому, чтобы понять собственное отношение к настоящему. Тынянов полагал, что литературных предшественников можно воскресить и приобщить к настоящему с помощью научного метода, однако он вынужден был отказаться от этого метода, когда попытался воскресить и поставить на службу современности Пушкина. Ходасевич искал в прошлом образцового литературного героя, но нашел не Пушкина, а Державина. Булгаков выбрал Мольера, чтобы исследовать сложные отношения между писателем и его покровителем, представляющие модель для понимания собственного положения в обществе; при этом писатель сохранял твердую уверенность: что бы ни случилось, Мольер и его произведения останутся бессмертны. К началу совместной работы с Вересаевым над пьесой о Пушкина Булгаков уже утратил веру в возможность продуктивных отношений с властью и потому не мог согласиться с соавтором и представить живого Пушкина на сцене.
Таким образом, ирония заключалась в том, что в 1937 году Пушкина чествовали не равные ему в литературном отношении авторы, но литераторы гораздо меньшего масштаба. Серьезным писателям мешала проблема литературной собственности; Пушкин – в отличие от Грибоедова, Державина и Мольера – был «общим достоянием». В XIX веке считалось, что Пушкин является «всем» для всех. Однако для биографа XX века он уже не мог быть кем угодно. Разноголосица, на которую биограф был обязан реагировать и с которой должен был взаимодействовать, сделалась слишком оглушительной. Наконец, в литературе, где Пушкин по-прежнему был величайшим из всех авторов, изменилось понятие литературного успеха: теперь оно простиралось от попыток стать новым Пушкиным до написания текстов о Пушкине. Сомнения и трудности не позволили таким авторам, как Тынянов, Ходасевич и Булгаков, превратить жизнь Пушкина в «полезное прошлое». Они оказались маргиналами на празднике 1937 года. В отличие от них, люди, подобные Лифарю, сумели выполнить «социальный заказ» – почтить память Пушкина. Разноголосица кажется оглушительной только в том случае, если к ней прислушиваться, однако именно этого и не делал Лифарь.
Постскриптум: поиски «Полезного прошлого» продолжаются
По случайности и ироническому велению судьбы я заканчивала последние строки этой книги 6 июня 1999 года, в день двухсотлетия со дня рождения Пушкина. Даже в Соединенных Штатах радиопередачи, газетные и журнальные статьи всю неделю, предшествующую знаменательной годовщине, муссировали пушкинскую тему [216]. В 1937 году памятные мероприятия изменили ситуацию в литературной и культурной жизни как в Советском Союзе, так и в русском зарубежье. В 1999 году также прошел целый ряд торжеств – более веселых и в то же время менее однозначных – в честь Пушкина и других русских писателей. По мере приближения конца века юбилейные мероприятия в виде концертов, конференций, сборников, газетных статей в России и за рубежом множились до бесконечности. Долгожданному двухсотлетию со дня рождения поэта предшествовали и сопутствовали конференции, посвященные другим двухсот– и столетним юбилеям: в честь Грибоедова, Бахтина, Зощенко, Набокова и других.
В Соединенных Штатах «New York Times» и Национальное общественное радио говорили о «пушкиномании», «пушкинской лихорадке» и «пушкинском помешательстве». Примером этого в конце нашего консьюмеристского столетия стало прежде всего распространение «пушкинского китча». Пушкин, которого издатели «Playboy» назвали «настоящим плейбоем», добавляет блеск почти всему, как заявил один владелец ночного клуба в Москве. Радиовикторины, выставки, концерты, оперы и даже новый британский фильм «Онегин» с Рэйфом Файнсом и Лив Тайлер привлекали всеобщее внимание к России в разгар пушкинских праздников. Но «официальная помпезность» и «коммерческий китч» не позволили Пушкину 1999 года, как и его «предшественнику» в 1937 году, представлять русскую литературу. В юбилейном году преобладающей реакцией на Пушкина снова оказались чувства, а не мысли.
Политические события конца XX века сделали далеким прошлым события той эпохи, которой посвящена эта книга: советская власть, возникшая в результате революции 1917 года, позорно обрушилась, не выдержав собственной тяжести, в начале 1990-х годов. Коммунистическая партия, которая так сильно влияла на литературные и исторические события и рассказы о них в годы своего правления, в настоящее время является всего лишь одной из многих партий в полудемократической России. Однако 1999 год в определенном отношении напоминает 1937-й: спустя десятилетие после краха советского режима преобладают те же культурные тревоги и растерянность, которые царили через 20 лет после его возникновения. Культурные и исторические смыслы в настоящее время непрерывно меняются. И единственные монументы, которые остались неколебимыми в конце советской эпохи, – это памятники Пушкину.
Но если бы Пушкин не занял центрального места в придуманном в 1937 году «полезном прошлом», он, по всей вероятности, не оказался бы его частью и в новом столетии. Примечательно, что при построении нового будущего Россия эмигрантов и Россия тех, кто остался на родине, понемногу сближаются, и объединяющее их прошлое превращается из «расколотой целостности»
XX века в новое единство XXI века. Что именно будет представлять собой «пригодное для использования прошлое» в России
XXI века, пока неизвестно, но, несомненно, среди строительных блоков этого прошлого окажутся биографические труды Тынянова, Ходасевича и Булгакова.
Автор благодарит Андрея Степанова, прекрасного переводчика