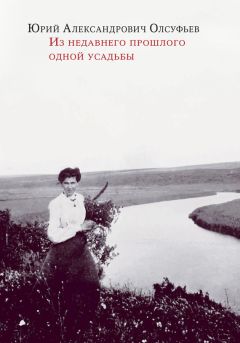также комментарии А. П. Чудакова, М. О. Чудаковой и Е. А. Тоддеса к основным изданиям теоретических и историко-литературных статей Тынянова: «Поэтика. История литературы. Кино» (1977) и «Пушкин и его современники» (1969), выполненные А. Л. Гришуниным и А. П. Чудаковым [Тынянов 1977], [Тынянов 1969].
Волович приходит к выводу, что любой писатель, использующий исторические материалы и темы, отталкивается от современной жизни, ибо «именно настоящее дает импульс к такому предприятию». Авторы исторических романов, как Тынянов, не могут не чувствовать потенциальные средства понимания законов жизни и всеобщие основания, которые присутствуют в «странных сближениях», питающих исторический жанр [Волович 1989: 526].
А. П. Чудаков, М. О. Чудакова и Е. А. Тоддес выделили четыре периода научной работы Тынянова: 1) студенческий период; 2) интерес по преимуществу к поэтике и истории русской поэзии (1919–1924); 3) интерес по преимуществу к литературной эволюции, а также к беллетристике, сценариям и теории кино (1924–1929); 4) последний период, когда Тынянов был «занят преимущественно художественной прозой и традиционными историко-литературными, биографическими и текстологическими разысканиями» [Тынянов 1977: 399]. В течение последний двух периодов Тынянов напряженно занимался поиском «полезного прошлого» в жизни Грибоедова и Пушкина.
Роман был впервые напечатан в журнале «Звезда» (1927. № 1–4, 6, 11, 12; 1928. № 1,2,4–6), а затем вышел отдельным изданием в издательстве «Прибой» (1929).
См. интересный анализ литературных подтекстов и аллюзий [Немзер 1991].
Белинков основывал этот вывод на рассказе самого Тынянова о гостиничном счете, см. [Тынянов 1983: 160].
М. О. Чудакова и В. Н. Сажин предполагают, что ответы, который дал Тынянов на анкету 1930 года, представляли собой полемический выпад против позиции, заявленной лефовцами в сборнике «Литература факта» (1929). В этом издании Н. Чужак сравнивал Тынянова с Фурмановым и называл обоих «фактографами», которые работают по документам (то есть представляют факты) и используют «выдумку» только как «службу связи» [Чужак 1929: 59].
Н. Л. Степанов, один из учеников Тынянова, вспоминал: «Рисуя в “Смерти Вазир-Мухтара” Ф. В. Булгарина, он придал ему черты одного из своих знакомых; я помню, как он изображал этого знакомого, складывающего на груди коротенькие ручки, нагибающего голову, замирая от беззвучного смеха» [Степанов 1983: 235].
К. И. Чуковский писал о том, что Тынянов, сам того не осознавая, придал «Вазир-Мухтару» многие свои черты [Чуковский К. 1983: 146].
Грибоедов на протяжении всего романа изображается как «азиат», и наиболее часто ассоциирующийся с ним цвет – землисто-желтый.
Уайт различает хронику, или анналы, с одной стороны, и написание истории – с другой. Для него понятие «хроника» представляет собой простую фиксацию событий, и потому хроника бессюжетна, хотя в ней могут содержаться зерна истории. В отличие от этого, при написании истории ученый, пытаясь найти причинные связи для событий хроники, вплетает их в сюжет.
Ю. И. Манин заметил другую историческую параллель, которая была памятна тыняновским читателям-современникам: «В1918и1919 году российская миссия в Иране была разгромлена дважды; посол И. О. Коломийцев, спасшийся в 1918-м, погиб в 1919-м» [Манин 1983: 513].
К этому относится проницательное замечание Эйхенбаума о том, что «роман начинается не с детства или юности Грибоедова (как это было в “Кюхле”), а с того момента, когда он теряет власть над своей жизнью и биографией, когда история вступает в свои права. <…> Роман недаром назван так, как будто речь идет не о жизни и не о Грибоедове: “Смерть Вазир-Мухтара”» [Эйхенбаум 1986: 212–213].
О работе Тынянова в кино и о его теории кино см. [Тынянов 1977: 320–348;
Eagle 1985; Ямпольский 1986; Heil 1987; Greenleaf 1992; Sandler 1994:139].
Письма Грибоедова, по словам Н. Л. Степанова, в стилистическом отношении особенно подходили для вплетения в прозаическое повествование. Исследователь писал: «Письма Грибоедова стоят несколько в стороне от основных тенденций стиля писем нач. XIX в. Любопытно, что и его служебные рапорты часто являются почти такими же образцами повествовательной прозы, как и письма. В них: детальное описание, точность и ровность стиля, семантическая и лексическая скупость» [Степанов 1963: 81].
См., например, приложение к статье [Brintlinger 1996], см. также [Brintlinger 1998].
Левинтон замечает, что «в “Смерти Вазир-Мухтара” весь биографический материал “втиснут” в последние 11 месяцев жизни Грибоедова, т. е. практически в “синхронный срез” (с очень немногочисленными ретроспективными отступлениями); биография сгущается почти что в “портрет” (на что явственно указывает эпиграф из Баратынского)» [Левинтон 1988: 6].
«<…> письма, подлинные или вымышленные (ср. обыгрывание вымышленного письма – воображаемое письмо Грибоедова к Родофиникину <…>, составленное из относящихся к Родофиникину мест в письме к Булгарину <…>,) могут выступать как своеобразный ключ, как указание на необходимость обращения к документам или, во всяком случае, к письмам» [Левинтон 1988: 12].
Ср. замечание Д. Н. и 3. А. Брещинских: «Духовная кастрация Грибоедова – а именно это происходит – является подлинной темой “Смерти Вазир-Мухтара” и причиной, по которой в романе сравнительно мало внимания уделяется литературным вопросам» [Breschinsky, Breschinsky 1985:4]. В данном случае Тынянов воспроизводил «дух эпохи», поскольку 1830-е годы были временем господства посредственностей в литературе.
Белинков писал: «Тынянов не забывает “Бориса Годунова”. Он прячет его, потому что “Борис Годунов” мешает концепции». Ученый замечал также, что нигде в личной переписке Грибоедов не упоминает этого чтения – момент, который, с точки зрения Белинкова, является еще одним оправданием этого пропуска [Белинков 1965: 231].
Тынянов обыграл в романе и проблему года рождения Грибоедова. После того как Булгарин узнает о смерти Грибоедова, он хочет написать некролог: «– Родился-то когда? Когда родился? – захлопотал он. – Батюшки! – хлопнул он себя по лысине. – Писать-то как? Не помню! Убей меня, не помню. Лет-то сколько? Ай-ай! Тридцать девять, – решил он вдруг. – Помню. Нет, не помню. И не тридцать девять, а тридцать… тридцать