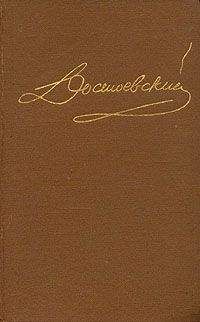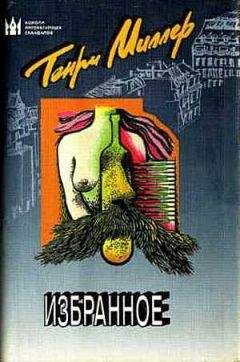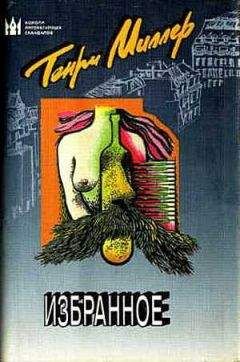[Достоевский 22: 70]. Здесь и далее цитаты из Достоевского даются по ПСС в 30 томах [Достоевский 1972–1990] с указанием номера тома и страницы.
Перевод Б. Л. Пастернака.
Перевод Г. М. Кружкова.
Примерно сто лет назад Г. К. Честертон писал о «диккенсовской палитре». Позднейшие критики не соглашались с этим определением, но все же оно в чем-то удачно и, по крайней мере, в какой-то степени применимо к творчеству Достоевского: «Нет романа „Николас Никльби“ Нет романа „Наш общий друг“. Есть сгустки текучей составной субстанции, называемой Диккенс» [Chesterton 1970:244]. Каждое произведение Достоевского составляет отдельный мир, но для читателя эти миры остаются тесно связанными друг с другом.
Перевод В. Н. Марковой.
Перевод А. М. Шадрина.
Дональд Фэнгер формулирует это так: «Крестьянин в литературе XIX в. не может сам высказать свои чаяния; его жизнь не может служить предметом для пространного и связного литературного произведения». Соответственно, важность крестьянина – не более чем «изобретение или открытие самого писателя; эта важность отвечает запросам автора и составляет часть его духовной жизни». История крестьянина в русской литературе – это «история перемен в настроении и мировоззрении наиболее влиятельной части образованного общества», и она говорит больше об этом обществе, чем собственно о крестьянине. Другими словами, в области художественной литературы крестьянин оказывается мифом в самом лучшем и самом серьезном смысле этого слова» [Fanger 1968: 232]. Это высказывание полностью применимо к Достоевскому и Толстому, однако точно не применимо к Чехову.
Одно из редких после 1839 года упоминаний отца содержится в эмоциональном письме, посланном Достоевским Анне Григорьевне из Висбадена в апреле 1871 года. В нем писатель жалуется на свой непроизвольный «припадок» игромании и последовавшие за ним проигрыши, которые, по его собственному мнению, стали еще более ужасными по «двум причинам»: во-первых, оттого что ему не хотелось огорчать жену, а во-вторых, из-за сна: «…я сегодня ночью видел во сне отца, но в таком ужасном виде, в каком он два раза только являлся мне в жизни, предрекая грозную беду, и два раза сновидение сбылось» [Достоевский 29-1: 197] (здесь и далее курсив в цитатах, кроме особо оговоренных случаев, принадлежит Достоевскому – Р. М.). В предшествующее лето Достоевский записал еще один сон об отце. Джеймс Райс цитирует эту запись, чтобы показать, как глубоко волновался Достоевский не только из-за своей эпилепсии, но и из-за проблем с дыханием: «…вижу отца (давно не снился). Он указал мне на мою грудь, под правым соском, и сказал: у тебя все хорошо, но здесь очень худо. Я посмотрел, и как будто действительно какой-то нарост под соском. Отец сказал: нервы не расстроены. Потом у отца какой-то семейный праздник… <…> Из его слов я заключил, что мне очень плохо. <…> NB. Проснувшись утром, в 12 часов, я заметил почти на том месте груди, на которое указывал отец, точку, как бы в орех величиной, где была чрезвычайная острая боль, если щупать пальцем, – точно дотрогиваешься до больно ушибленного места; никогда этого не было прежде» [Достоевский 27: 104; Rice 1985: 102].
Франк дает превосходный обзор литературы по теме убийства отца Достоевского и его возможных мотивов, а также ясно анализирует сложную систему улик, опровергающих версию об убийстве. См. также недавнее обсуждение Франком этой темы в [Frank 2002: 4–5].
К моменту выхода этой книги появились четыре значительные работы, две монографии и две статьи, каждая из которых посвящена размышлениям о характере перемены, произошедшей с Достоевским, и о его религиозных убеждениях в целом. Читатели, заинтересованные в более полном изучении этих вопросов, могут обратиться к плодотворной книге Стивена Кэссиди «Религия Достоевского» [Cassedy 2005] и новаторской монографии Малкольма В. Джонса «Достоевский и динамика религиозного опыта» [Jones 2005], а также к книге Нэнси Руттенбург «Отчуждение Достоевского» [Ruttenburg 2005] и статье Джеймса Л. Райса «Финал Достоевского: предполагаемое продолжение „Братьев Карамазовых4» [Rice 2006]. Все эти авторы подходят к теме с совершенно разных точек зрения, и их работы, вместе взятые, свидетельствуют о примечательном возрождении интереса к природе религиозной веры Достоевского.
Наталья Фонвизина была женой декабриста Михаила Фонвизина, она последовала за мужем в Сибирь. На пересыльной станции в Тобольске, когда Достоевский шел с этапом на каторгу, она проявила к нему заботу. Достоевский в течение следующих четырех лет хранил под подушкой экземпляр Нового Завета, который подарила ему Фонвизина, – единственную книгу, разрешенную к чтению в каторжном остроге [Frank 1983: 73–75]. О том, как это претворилось в творчестве писателя и, в частности, помогло ему изобразить духовный кризис Ивана Карамазова, см. нашу работу [Miller 2008:54–71]. В частности, я утверждаю там, что «стилистика отрицания Ивана поразительно похожа на стилистику утверждения из написанного за много лет до написания романа письма Достоевского к Н. Д. Фонвизиной. Писатель утверждал тогда, что его любовь к Иисусу даже больше, чем его любовь к истине. Иван тоже делит свою вселенную пополам: подобно Достоевскому, он утверждает, что для него есть нечто более ценное, чем истина, однако это не Иисус, а его право не принимать эту истину» [Ibid: 60]. См. также трактовку Робертом Луисом Джексоном аналогичного момента ближе к концу жизни Достоевского. М. М. Бахтин цитирует запись, сделанную Достоевским в 1881 году в ответ на замечание К. Д. Кавелина: «Это жгучее чувство говорит: лучше я останусь с ошибкой, со Христом, чем с вами» [Достоевский 27: 57; Jackson 1993:284–286].
См. анализ этой склонности Достоевского в нашей работе [Miller 1981].
Франк довольно подробно описывает политическую и культурную ситуацию этого периода в своей второй и третьей книгах. Он подчеркивает, что поворот Достоевского к народу сходен с позицией большей части русской интеллигенции того времени, которая «в целом» начала переходить от западнической к славянофильской точке зрения. Франк цитирует заявление Белинского из статьи 1847 года: «…я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманических космополитов» [Белинский 10: 29]. Почвенники 1860-х годов, к которым причислял себя Достоевский, сознательно стремились синтезировать идеи славянофилов и западников. Они считали,