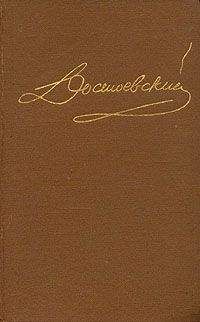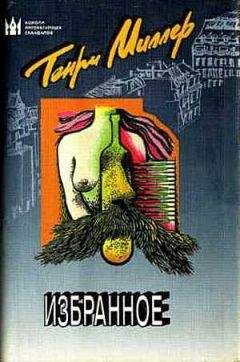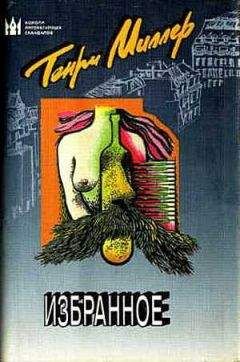многие отголоски идеи палингенеза встречаются в рабочих тетрадях при написании «Подростка». Этот интерес Достоевского может стать увлекательной темой будущих исследований.
Эксперименты черта с гомеопатией находят интересную параллель в альтернативных медицинских процедурах, которые Уильям Джеймс использовал для лечения собственного недуга. Как рассказывает Линда Саймон, автор биографии Джеймса, философ, пытаясь вылечить себя от депрессии и многочисленных физических недугов, прибегал не только к услугам «докторши, лечащей разум», но и к галлюцинаторным препаратам, гальванизму, различным видам народного целительства и нетрадиционной медицины. По свидетельству Саймон, для того чтобы вылечить болезнь сердца, Джеймс ввел себе препарат, приготовленный из органов козы: лимфу из грудных протоков вместе с экстрактами из лимфатических желез и головного мозга [Simon 1998: 211]. Джеймс, презиравший официальную медицину и обращавшийся к тем, кого можно назвать ненормальными, и к тем, кто отваживался на употребление наркотиков-галлюциногенов, похож на черта из романа Достоевского своей непочтительностью к дутым авторитетам-врачам. (Я благодарна Рут Ришин и Джоан Делани Гроссман за указание на эту аналогию и на соответствующие страницы в книге Саймон.)
Перевод В. В. Рогова.
См. в главе 4 анализ рассказа о луковке и ее притчевых функций в «Братьях Карамазовых».
Джеймс связывал фигуру святого с образом социалиста-утописта XIX века: «В этом отношении утопические мечты о социальной справедливости, которым предаются многие современные социалисты и анархисты… сходны с верой святого в существование Царствия Небесного. Они помогают нарушить господствующую жесткость и становятся медленно поднимающейся закваской лучшего порядка» [James 1970: 285]. Что сказал бы Достоевский об этой параллели? Несомненно, он тоже был зачарован опасной границей между святым и мечтателем-утопистом.
Перевод А. Кривцовой, Е. Ланна.
Перевод Г. М. Кружкова.
Подробнее об этом финальном фрагменте романа см., например, [Terras 1981: 441–444; Thompson 1991: 270–272; Miller 2008: 130–133; Frank 2002: 701–703; Jackson 2004: 234–254].
Перевод П. Кузнецова.
Джозеф Франк отмечает: «Если судить по позднейшим словам писателя, ни одно из произведений Гюго не играло для Достоевского большей роли, чем страшная повесть „Последний день приговоренного к смерти". Эта книга, наполненная, по словам Герцена, „странными, ужасными огнями и тенями Тернера", – воображаемый дневник приговоренного преступника, ожидающего казни за некое неуказанное преступление. <…>…и есть что-то действительно пророческое в том, что Достоевский был захвачен этим произведением. Ибо однажды ему предстояло испытать те же муки, что и герою этой книги, и, вновь переживая их, открыть, какой неизгладимый отпечаток оставила книга Гюго в его душе. Вернувшись в тюрьму после инсценировки казни в 1849 году, во время которой он думал, что его отделяет всего лишь мгновение от расстрела, он сразу взялся за письмо брату Михаилу. В этом трогательном документе есть французская фраза, никак не объясненная – on voit le soldi! Это почти те самые слова, которыми осужденный у Гюго выражает свое желание жить любой ценой, даже ценой ссылки и каторжных работ, которые, как только что узнал Достоевский, он должен был отбыть сам. Неудивительно, что столь близко приняв к сердцу этот текст, Достоевский впоследствии черпал из него многое для своих романов» [Frank 1976: 109]. См. также главу 1 о письме Михаилу, имеющем важное значение для жизни и творчества Достоевского.
В октябре 1870 года Достоевский написал своей племяннице С. А. Ивановой: «То-то и есть, что все беру темы себе не по силам. Поэт во мне перетягивает художника всегда, а это и скверно» [Достоевский 29-1:143]. Подробнее о том, как Достоевский воспринимал свои соперничающие ипостаси поэта и художника, см. [Miller 1981: 23–32].
См. подробнее в главе 4 об аллюзиях Ивана на этот апокриф.
«Камень, лист, дверь» – это небольшая книжка Томаса Вулфа, предназначенная для подростков и в наше время почти не читаемая. Поэзия Вулфа ужасна, но необыкновенно ярко выражает силы юности. Я позаимствовала и использовала в качестве заголовка название этой книги отчасти для того, чтобы напомнить всем нам, что «Братья Карамазовы» – это роман, населенный подростками и молодыми людьми: таковы Алеша, Иван, Митя, Смердяков, Лиза, Катерина Ивановна, Илюша, Коля, Смуров, Ракитин, Грушенька и др. Мы знаем, что Достоевский хотел писать о детях, а кончил тем, что написал о молодежи. Когда мы погружаемся в истории жизни этих героев или думаем, что могло с ними случиться, то забываем, что перед нами подростки или молодые люди. Более того, Вулф даже не написал стихов, из-за которых его помнят; эти строчки были «открыты», отобраны и отбракованы из его прозы малоизвестным редактором, сержантом Джоном С. Барнсом – примерно так, как Алеша составил собрание мыслей и наставлений старца Зосимы. См. [Wolfe 1945].
В главе 4 уже приводились слова из письма Достоевского к редактору: «…особенно прошу хорошенько прокорректировать легенду о луковке. Это драгоценность, записана мною со слов одной крестьянки и, уж конечно, записана в первый раз» [Достоевский 30-1: 126–127]. Франк и Гольдштейн указывают, что в действительности эта история появлялась в двух вариантах в собрании русских легенд Афанасьева [Frank, Goldstein 1987:489], см. также [Smyth 1986: 41–53]. Эта переписка обсуждается более подробно в главе 4.
Тезис Лоджа о романе как нарративе, превращающем человеческие проблемы и противоречия в процесс, напоминает идеи раннего Стэнли Фиша в книге «Удивленный грехом: читатель в „Потерянном рае“» [Fish 1967]. Как известно, именно Фиш вдохновил Лоджа на создание одного из самых неотразимых, милых и комичных персонажей – Морриса Цаппа, героя нескольких романов Лоджа. См. [Lodge 1996:181–182]. Статья, о которой идет речь, была впервые опубликована в 1990 году в сборнике Лоджа «Способы общения». Гэри Сол Морсон также подробно и интересно писал о том, что он называет процессуальным или процессуальными намерениями. См., например, его книгу «Нарратив и свобода: тени времени» [Morson 1994: 142–145].
Интересно, что Толстой в своем первом неоконченном и неопубликованном при жизни рассказе «История вчерашнего дня» тоже сравнивал разговор с игрой в мяч.