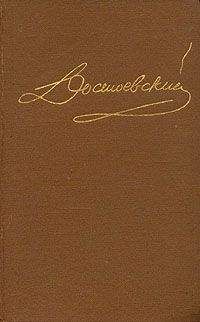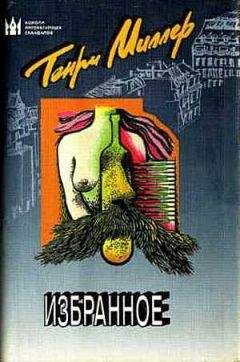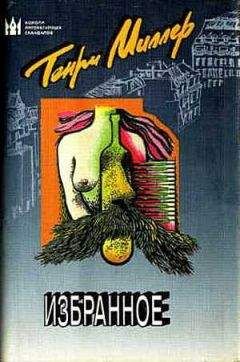меняющийся вокруг мир и на отношение к другим людям. „Исповедь".. – это, безусловно, повествование, стремящееся определить фигуру Руссо, который в своих физических и психологических недугах ищет некую форму очищения, когда пишет автобиографию. Аристотель и другие до него понимали, что исповедь и катарсис часто являются двумя сторонами одного и того же акта саморазоблачения» [Slattery 2000: 85]. Далее Слэттери предполагает, что болезнь Руссо «связана с его культурой, психологией и автобиографическим проектом» [Ibid: 87]. Он красочно описывает «Исповедь» (и строящуюся тогда парижскую канализационную систему) как место «интимной разрядки» [Ibid: 93]. Слэттери цитирует наблюдение Альфреда Зиглера о том, что «телесные страдания Руссо связаны с постоянным использованием катетеров, „осушающих мочевой пузырь, чтобы избежать уремии, самозагрязнения собственными экскрементами"… <…> Я предполагаю, что подобная опасность подстерегала его при написании „Исповеди“ и в его собственной жизни» [Ibid: 107]. Наблюдения Слэттери хорошо соотносятся с образом Степана Трофимовича: его слова на протяжении всего романа тоже составляют своего рода интимную разрядку, его болезни – как душевные, так и телесные – сказываются на его мыслях и формируют их. Однако, в отличие от Руссо, к концу романа Верховенскому-старшему удается избежать этого страшного состояния самозасорения. Он избавляется от вредных веществ.
Руссо, с другой стороны, отказывается от своего имущества, «решив скорей бросить его в поле» [Руссо 1961: 424].
С этой точки зрения Верховенский-старший уже не напоминает Руссо, а приобретает многие качества любимого Достоевским Дон Кихота.
См., например, [Gossman 1978:60]. Эпизоду кражи юношей Августином груш в моральном и духовном развитии Руссо соответствует эпизод с лентой и служанкой Марион. Хотя преступление Руссо гораздо серьезнее и сложнее связано с желанием и моральной перверсией, оба действия импульсивны, непреднамеренны и в итоге играют центральную роль в том, что признается духовным преображением рассказчика. Интересный анализ этого эпизода с лентой у Руссо см. [Coetzee 1985: 205–209; De Man 1979: 280; De Man 1977].
Да здравствует большая дорога! (фр.).
Анализ этого фрагмента из «Записок…» см. во второй главе. Кроме того, здесь, по-видимому, можно уловить некоторые комические обертоны, связанные со сценами из «Короля Лира», когда король оказывается в степи.
Я люблю народ (фр.).
Нечто совершенно новое в этом роде (фр.).
Это признано (фр.).
И этой дорогой неблагодарной женщине… (фр.).
Эти свиньи (фр.).
См. прекрасный анализ этих трех чтений Евангелия Софьей Матвеевной [Martinsen 2003а: 126–128].
Это произведение опубликовано в 1782 году, через четыре года после смерти автора.
Знаете ли (фр.).
Кутзее усматривает в этой склонности Руссо верить собственной лжи (качество, свойственное и Степану Трофимовичу) проявление иной правды – подлинности: «Сам язык… становится для Руссо бытием подлинного „я", и обращение к внешней „истине“ исключается» [Coetzee 1985: 209]. Исходя из этого можно сказать: в момент, когда Степан Трофимович утверждает, что верит себе, когда лжет, нельзя решить, говорит ли он в этот момент правду (это знание для нас «исключается»), но можно предположить, что его язык свидетельствует о «подлинном я» героя.
Письмо Страхова не публиковалось до 1913 г.
Пер. Б. Л. Пастернака.
Пер. Б. Г. Реизова.
«Сон смешного человека» – четвертый из написанных в форме монолога важнейших текстов Достоевского (три других – это «Белые ночи», «Записки из подполья» и «Кроткая»), рассказчиком которых являются неназванные городские мечтатели. В жизни каждого из них произошла единственная встреча с молодой женщиной, и эта встреча оказывает определяющее влияние на моральную, духовную и этическую сторону жизни мечтателя и на всю жизнь становится центром его грез. Об интерпретации этих текстов как своего рода «квартета» см. [Belknap 2000: 35–42; Martinsen 20036: xii-xiv].
Пер. О. П. Сороки.
Перевод А. А. Франковского.
См. главу 5, в особенности сноски 5, 7, 10, 13, 16.
Понимание исповеди, которое я использую в данном случае, восходит к Л. П. Гроссману, см. [Grossman 1985: 156].
Хотя мы склонны противопоставлять разум и страсть, Руссо пытается показать связь между ними: «Именно благодаря их [страстей] деятельности и совершенствуется наш разум; мы хотим знать только потому, что мы хотим наслаждаться, и невозможно было бы постигнуть, зачем тот, у кого нет ни желаний, ни страхов, дал бы себе труд мыслить» [Руссо 1969: 89]. Его естественные люди были подвержены страстям лишь постольку, поскольку это было простым «естественным импульсом» [Там же] – желанием пищи, самки, отдыха или страхом боли и голода.
Имеется в виду «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля».
Комментаторы указывают также на интерес Достоевского к статье Н. Н. Страхова «Жители планеты», напечатанной в январском номере «Времени» за 1861 год, и к трудам астронома К. Фламмариона [Достоевский 25: 400].
Такие явления типичны в практиках, получивших в популярной психологии название «околосмертного опыта», когда человек, среди прочего, чувствует, что отделяется от тела, входит в туннель и видит свет в его конце. Вместе с этим появляется искажение времени: человек видит всю свою жизнь, у него возникает чувство ее единства, он чувствует, что приближается к пределу, за которым либо сможет пройти дальше, либо вернется к жизни. Эти феномены описывались такими психиатрами, как К. Ринг и Б. Грейсон, но, конечно, наиболее близко они знакомы читателям русской литературы по таким произведениям, как «Сон смешного человека» или «Смерть Ивана Ильича» Л. Н. Толстого (1886). Феномен сохранения сознания и чувствительности после смерти Достоевский исследует и в рассказе «Бобок» (1873).
В «Братьях Карамазовых» рассказчик описывает звездное небо, заполненное бесчисленными звездами. См. также