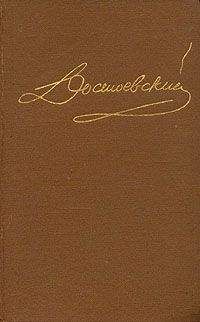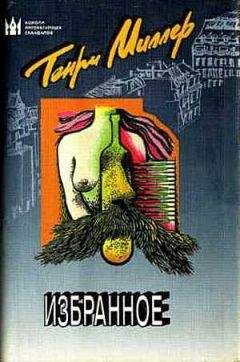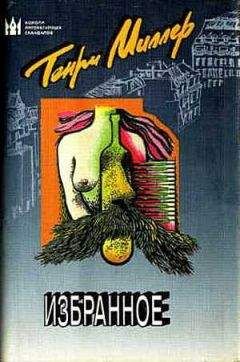его многочисленные статьи, в том числе «Функция агиографии в романах Достоевского» [Bortnes 2007], и книгу «Видения славы» [Bortnes 1988:191]. См. также общие работы Роджера Андерсона, Роберта Белнапа, Николая Бердяева, Дэвида Бетеа, Стивена Кэссиди, Леонида Гроссмана, Вячеслава Иванова, Малкольма Джонса, Роберта Джексона, Свена Линнера, Ольги Меерсон, Харриет Мурав, Виктора Терраса, Нины Перлин, Дайаны Томпсон, Владимира Соловьева, Валентины Ветловской и Владимира Захарова – лучших авторов, писавших о Достоевском и религиозной тематике. Многие из этих литературоведов, как и Михаил Бахтин, тщательно исследовали библейские цитаты у Достоевского и обращались к вопросу о том, как фрагменты из Библии, житийных текстов и богословских сочинений смешивались на страницах его произведений с материалом газет, уличных анекдотов, пародий и памфлетов.
См. также статью Присциллы Майер «Преступление и наказание: современное Евангелие Достоевского» [Meyer 1998]. Майер приводит убедительную аргументацию Гэри Розеншилда [Rosenshield 1978], что последние две страницы эпилога «Преступления и наказания» являются «завершением сцены… в которой Соня читает рассказ о воскрешении Лазаря Раскольникову», и, таким образом, являются «исполнившимся пророчеством» [Meyer 1998: 69–70]. Далее она убедительно доказывает, что весь роман Достоевского можно прочесть как «современное Евангелие» и, в частности, как своего рода версию Евангелия от Иоанна, поскольку Достоевский проводит Раскольникова через «серию событий, пародирующих моменты жизни Иисуса» [Ibid: 70–71]. Майер также недвусмысленно заявляет, что «русское православие ставит Иоанна выше первых трех евангелистов» [Ibid: 69–71].
Кермоуд подробно исследовал этот увлекательный парадокс жанра притчи. Он указал, что наиболее интенсивное внимание к притче вообще и, по сути, начало спора о природе притчи восходит именно к приведенным стихам Евангелия от Марка и, в частности, к переводу одного слова – греческого hina. Это ключевое слово, как утверждает Кермоуд, в свою очередь является переводом утраченного арамейского текста. Коротко говоря, проблема состоит в том, следует ли переводить это слово как «чтобы» или как «для того, чтобы», или как «потому что»? Матфей, по словам Кермоуда, «кажется, находил слово hina у Марка неприемлемым. Он не опускает общие суждения о притче из своей большой главы о притчах (13-й), но заменяет слово hina словом hoti, “потому что”» [Kermode 1979: 29–32].
Отмечу, что мой анализ «Братьев Карамазовых» в данной главе основан отчасти на моей книге «“Братья Карамазовы”: миры романа» [Miller 2008], хотя в настоящем издании аргументация расширена и пересмотрена.
Более подробно об этом письме и его отзвуках в публицистике Достоевского см. в первой главе.
См. превосходный анализ этого текста Р. Л. Джексоном: [Jackson 1981:20–33], а также [Frank 1983 2:116–128; Frank 2002 5:342–345] и предисловие Г. С. Морсона к «Дневнику писателя» [Morson 1994 1: 24–28].
Исповеданий веры (фр.).
В данном конкретном тексте лучше говорить о «Достоевском» – то есть отчасти биографическом авторе, отчасти – о вымышленном рассказчике, продолжении того автобиографически-вымышленного гибридного повествования, которым является сама история.
Ненавижу этих разбойников (фр.).
Я вернусь к этой истории в восьмой главе, чтобы проанализировать ее более подробно как классическую историю религиозного обращения. В настоящей главе я подчеркиваю лишь притчевые качества этого рассказа.
Стих из Евангелия от Иоанна (12: 24), который служит эпиграфом к «Братьям Карамазовым», важен и для «Мужика Марея». Давно замечено, что в последнем романе писателя благодать передается, когда персонаж становится свидетелем события или приобретает некий опыт, вызывающий ощущение чуда и тайны, а также переживает присутствие чего-то глубоко гармоничного и доброго. В дальнейшем герой забывает об этом, но впоследствии, в критический момент, вспоминает, и его убеждения меняются. Затем герой пытается передать свой опыт другим. Интересно, что вся эта парадигма присутствует и в «Мужике Марее». Девятилетний герой приобретает опыт, который его вдохновляет и утешает; он забывает о нем только для того, чтобы вспомнить в час отчаяния на каторге, и затем передает этот опыт другим.
См. об этом в первой главе.
Я обсуждаю этот момент подробно в своей книге [Miller 2008: 39–41]. Подробный рассказ о том, что чувствовал Достоевский в этот трагический период, см. [Frank 2002:382–389; Kostalevsky 1997:65–67]. Глубокое прочтение указанного отрывка см. [Belknap 1967: 94–96].
Сара Смит соглашается с гипотезой Л. М. Лотман о том, что Достоевский умышленно вводил в заблуждение своего редактора: поскольку книга Афанасьева была запрещена, Достоевский говорил, что первым записал этот рассказ [Smyth 1986:42; Лотман Л. 1974: 307]. Тем не менее радость, которую испытывал Достоевский, когда переписывал эту легенду, гармонирует с его последовательным поиском оригинальности и склонностью к хвастовству о том, что именно он находит новые типы, анекдоты, идеи. Это также согласуется (как я здесь подчеркиваю) с его собственной склонностью забывать, а затем вспоминать что-то «в нужное время». См. также [Belknap 1990] и работы, посвященные разветвленным значениям этого отрывка в художественном целом романа, [Miller 2008: 81–86; Morson 2004].
«Следует… отвергнуть распространенное заблуждение, что Восток сосредоточен на воскресшем Христе, а Запад – на Христе распятом. Если прибегать к противопоставлению, то точнее было бы сказать, что Восток и Запад думают о Распятии несколько по-разному… <…> Православная церковь в Страстную пятницу думает не только о человеческой боли и страданиях Христа самих по себе, но и о контрасте между Его внешним унижением и Его внутренней славой. Православные видят не только страдающую человеческую ипостась Христа, но и страдающего Бога. <…> Распятие неотделимо от Воскресения, ибо и то, и другое – единое действие. <…> Когда православные думают о Христе распятом, они думают не только о Его страданиях и одиночестве; они думают о Нем как о Христе-победителе, Христе-царе, триумфально царствующем, возвышаясь на древе» [Ware 1964: 232–233].
Живая картина (фр.).
В главе «Великий инквизитор» Иван в разговоре с Алешей дает «предисловие» к своей поэме: «Видишь, действие у меня происходит в шестнадцатом столетии, а тогда, – тебе, впрочем, это должно быть известно еще из классов, – тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние