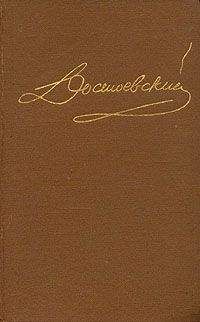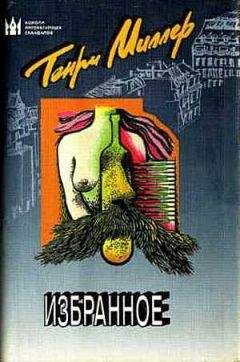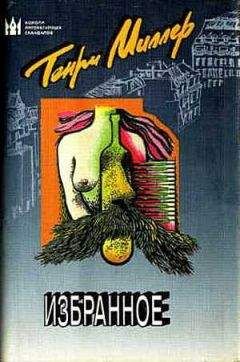главу восьмую и заключение данной книги.
Во французской традиции XVIII века утопические произведения чаще всего назывались французскими словами reves (сны), codes, robinsonades или voyages imaginaires. Французский словарь XIX века Литтре определял утопию как chimere (химеру). См. [Manuel, Manuel 1979: 6]. Таким образом, название «Сон смешного человека» для образованного читателя XIX века ассоциативно связывалось с утопическими мечтами.
Здесь цитируется «Защита поэзии» сэра Филипа Сидни [Sidney 1923: 15].
Отсюда следует, что название «Сон смешного человека» могло вызывать утопические ассоциации у образованного читателя XIX века.
Из стихотворения «Сад».
Из стихотворения «Песнь счастливого пастуха», пер. Г. М. Кружкова.
Мануэли подчеркивают, что в исторической перспективе не важно и не нужно различать утопию и рай: «Любое строгое разграничение будущей утопии и ностальгии по идеализированному ушедшему человеческому состоянию обесценивается их постоянным взаимодействием в западной мысли. В вымысле изначальной утопии Томаса Мора идея уже существует где-то на далеком острове и видна человеческими глазами. <…> Точно так же широко распространенная христианская вера в то, что Эдемский сад, или земной рай, остался на своем месте даже после изгнания Адама и Евы, питала надежду на то, что райское блаженство возможно по эту сторону неба, и служила его образцом» [Manuel, Manuel 1923: 5]. Образно говоря, утопическое дерево может приносить много разных плодов, но мы сосредоточимся на одном конкретном фрукте – яблоке, может быть, яблоке с крошечным паучком на стебле. То есть тот самый вид разделения, против которого они выступают, – отделение будущих или настоящих утопий от эдемской ностальгии по состоянию человечества в прошлом – может дать ценную информацию. Мне кажется, что порыв к идее будущего и ностальгия по ушедшему времени не могут быть поняты как тождественные. Указывать на их различия так же важно, как признавать их сходство.
Такой оксюморон лучше всего осознанно принимать как таковой, сохраняя нетронутыми его отдельные переплетающиеся нити. Таким образом, использование терминов «рай» и «утопия» как взаимозаменяемых приводит к путанице. Ср., например, смешение понятий в следующем интересном утверждении: «Однако миф о гипотетическом рае (как следует из этимологии – „обнесенный стеной сад“) продолжал существовать. <…> Платой за вход в утопию было соблюдение правил поведения» [Sicher 1985: 378].
Перевод М. Л. Лозинского.
Использование света в готической манере будет рассмотрено в следующей главе.
Этот отрывок, возможно, снова всплыл в памяти Достоевского, когда он создавал сцену, в которой Иван Карамазов сталкивается со своим потусторонним гостем. Черт насмешливо провоцирует Ивана рассуждениями о своем существовании: «Слушай: в снах, и особенно в кошмарах, ну, там от расстройства желудка или чего-нибудь, иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность, такие события или даже целый мир событий, связанный такою интригой, с такими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до последней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит…» [Достоевский 15: 74]. Более подробный анализ этого отрывка см. в главе 8.
Возможно, Достоевский имел в виду слова шекспировского Просперо в «Буре». Ближе к концу пьесы, думая отказаться от власти и волшебства, чтобы покинуть заколдованный остров и вернуться в обычный мир, он говорит: «Из той же мы материи, что сны. ⁄ Сон – завершенье куцей жизни нашей…» (Шекспир, «Буря», акт IV, сцена 1; перевод О. П. Сороки).
Притча Мышкина «насчет веры», рассказанная Рогожину, также выражает суть религиозного чувства в словах, лишенных логики и разума и опирающихся на соответствия, которые в конечном счете оказывают преобразующее воздействие как на рассказчика, так и на его слушателей. См. об этом подробнее в главе 4.
Дебора Мартинсен указывает, что в этом месте герой «повторяет вопрос Николая Ставрогина. <…> Перенося действие на другую планету, оба они дистанцируются от жестокого обращения с молодой девушкой, превращая свой действительно „срамной и бесчестный поступок“ в абстрактное рассуждение» [Martinsen 20036: xvii].
Васиолек, например, красноречиво аргументировал эту позицию: «И Ставрогин, и Версилов – люди без веры, и они должны были дать толкователям Достоевского ключ к возможности того, что сон „смешного человека“ – это сон о золотом веке без веры. Вспомним, что пятнышко света („звездочка", которую видит „смешной человек") превращается у Ставрогина в красного паучка» [Wasiolek 1964: 145]. См. также [Peace 1982].
Джордж Гибиан отмечал, что образы природы у Достоевского, хотя и чрезвычайно мощные, удивительно сжаты: «В своих поздних произведениях Достоевский часто концентрировал значение растительности и „сада“ в листке» [Gibian 1975: 527].
См. главу 3 и анализ эпилога «Преступления и наказания». Как и во «Сне…», трихины в романе – это паразиты, олицетворяющие скептическое отношение Достоевского к современному миру, где люди стремятся занять место Бога, соблазняются красотой лжи и самообманом.
Образы листьев у Достоевского и желудей у Сервантеса демонстрируют поразительно схожее использование синекдохи, риторического приема, в котором часть представляет целое: в данном случае один маленький фрагмент олицетворяет весь сад природы.
См. четвертую главу, в особенности рассказ Грушеньки про луковку: там тоже история об отчаянии превращается в процессе рассказывания в притчу о надежде.
Этот фрагмент, разумеется, связан с давним увлечением Достоевского почвенническими идеями.
Описание смерти маленького мальчика – мрачная сцена, преображенная в сознании умирающего ребенка видением красоты, – вызывает в памяти смерть других героинь Диккенса, маленькой Нелл («Лавка древностей») и Бетти Хигден («Наш общий друг).
Многочисленные черты сходства рассказа с «Девочкой со спичками» Ганса
Христиана Андерсена также бросаются в глаза и могут стать предметом отдельного исследования.
Перевод И. С. Тургенева.
Перевод В. Райзмана.
Для целей своего анализа я провожу аналогию между жанром и красотой,