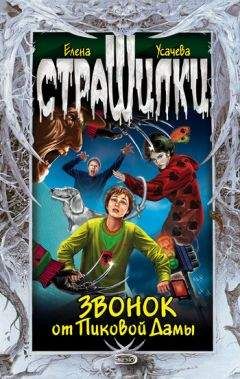мой сосед!»
«Гробовщик почел себя обиженным и нахмурился». Это уже реакция на шквал ненависти в европейских газетах. «Размышляя дома о происшедшем, он был искренне удивлен открывшейся несправедливостью: „Что же это, в самом деле… чем ремесло мое нечестнее прочих?“».
Действительно, несправедливо. Европейские кабинеты позволяли себе и худшее в отношении колоний, но их не стыдили. Однако между Адрианом Прохоровым и другими торговцами глубокий водораздел — они обслуживают живых. Он же — царь над мертвыми. Снова вспомним «Прозерпину». Если не смягчать условия, жизнь в Тартаре станет невозможной. Адриян приглашает мертвецов на новоселье, хочет устроить праздник — но он вел себя с ними нечестно, поставлял дешевые гробы, на него накидываются, и он, «оглушенный их криком, почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости…».
Это ли не наказание для «орудия» наказания? Для бича Божьего? Как в последней строчке рассуждения Долли. Император упадет на кости.
Глава пятнадцатая. «Палец с руки Петра Великого»
Возьмем темную сторону личности, нарисованную Дарьей Федоровной. «Суровое выражение его прекрасного чела выдает», что «его душа скована бронзовыми оковами, она не может оторваться от земли, она жестока, угнетает его, не позволяет расслабиться. Этот взгляд неумолим», он «вызывает только страх, слезы и стенания! Но как знать! Может быть, в этот выродившийся и развращенный век, лишенный истины и веры, Господь подчас превращает» подобных людей «в свое оружие кары и назидания!».
Теперь поместим нарисованный персонаж в спальню Старухи. Там окажется Германн. Настоящий убийца графини. Но кого в реальности он напугал до смерти? И кто питал тайную недоброжелательность?
Бенкендорф называл государя «страшилищем либерализма». Если учесть голову Вольтера в чепце Пиковой дамы — то напуганы оказались все последователи революционной идеологии, которая попала в Россию вместе с вольтерьянством. Сторонники государственных переворотов. Дворянство, как стихия мятежей. Чужеродная для России структура государственного устройства, которая эти мятежи порождает. «Старая ведьма» — остатки Речи Посполитой, находящиеся в теле империи, но не примиренные с ней. «Соседи-враги» под самыми любезными масками, в особенности Австрия, Франция и Англия. Возможно, Европа в целом, ожидающая, чтобы «владыка севера» «обдернулся» при очередной игре.
Довольно, чтобы сойти с ума.
После подавления Польши наступил период «ледовитого» мира. Все еще были возможны поездки за границу, долгое проживание там, гастроли и служба иностранных артистов в России. Но пресса два десятилетия писала об «империи кнута», о русском деспотизме, о колоссе на глиняных ногах. В чем видную роль сыграли польские эмигрантские круги. Временные сближения, договоренности и даже альянсы только оттягивали срок большого конфликта, который в конце концов разразился Крымской войной, в основе которой лежали не противоречия так называемого восточного вопроса, а великий вопрос России — Запад.
Пушкин успел услышать лишь отдаленные раскаты грома. 30 ноября 1833 года он записал «любопытный разговор» с Джоном Дунканом Блаем, британским посланником: «Зачем вам флот в Балтийском море? Для безопасности Петербурга? но он защищен Кронштадтом. Игрушка!» [470]
Поэт не дал комментариев. Но что за странная идея? Военно-морскую базу, лишенную флота, легко миновать, не подставляясь даже под огонь батарей. Мнение тем более настораживает, что Англия уже дважды высылала свой флот против России: в 1791 и 1801 годах. А в недавнюю войну с Турцией в Петербурге передавали со ссылкой на британского резидента Джеймса Александера слух, будто английский флот вскоре прибудет в Черное и Балтийское моря и «преподаст такой урок русским, что они его нескоро забудут» [471].
Блай продолжал искушать: «Долго ли вам распространяться? (Мы смотрели карту постепенного распространения России, составленную Бутурлиным)». Кто это говорит? Дипломат крупнейшей в мире империи, «распространившейся» далеко за пределы острова и далекой в своих колониях от соблюдения «человечности».
«Ваше место Азия; там совершите вы достойный подвиг сивилизации… etc.» Или в убийстве Грибоедова в «Азии» не было заметно английского следа? Спор между исследователями лишь касается вопроса, к кому адресоваться: к официальному кабинету или к Ост-Индской компании [472].
Время мутного, скрытого противостояния, исполненного «тайной недоброжелательности». Судя по дневнику, Пушкин это чувствовал.
«Виноватого пуля сыщет»
Отношения Пушкина к царю крайне сложные. Было восхищение, как первая любовь. Были попытки объяснить самому себе, зачем нужен монарх. Было спокойное приятие, всплески непонимания, обид, примирений — не публичных и не с глазу на глаз, а внутренних, наедине с собой.
Император всегда оставался благорасположен, но не приближал и, вероятно, до конца не верил. Его отношение тоже очень непростое, с учетом человеческой симпатии, покровительства и чего-то совсем иного, не от самого Николая I исходящего, а нисходящего на него свыше.
Не стоит искусственно ссорить поэта с государем, как делали, увы, не только советские исследователи под давлением устойчивых мифологем. Но и абсолютно благостной картина не была. Оба обладали способностью к многомерному восприятию. Пушкин от рождения. Государь после миропомазания. Николай I видел поэта так же хорошо, как и Пушкин его самого. А это не всегда приятно.
«Гробовщик» и «Герой» написаны с разницей в 20 дней. Письма Пушкина 1830 года дышат искренним восхищением. Тем не менее в области творческого бессознательного император либо уже стал, или все еще остался со времен декабристских исканий поэта не «небу другом», а батюшкой, пьющим «за здоровье своих мертвецов». Ведь и в «Герое» «Одров я вижу длинный строй, / Лежит на каждом труп живой».
Гробы встретят читателя и в «Клеветникам…»: «Есть место им в полях России / Среди не чуждых им гробов». Принято считать, что речь о возможном новом нашествии европейских армий, а «нечуждые гробы» — наполеоновские. Но павших на поле брани не хоронили в гробах. «О поле, поле, кто тебя / Усеял мертвыми костями?» Не на эти ли кости упадет гробовщик-император?
Гробы ладили для тех, кого опустили в землю «ниже уровня прилива», без креста. Им не чужды «озлобленные сыны», присланные «народными витиями», — но не кровно, а идейно. Намек на них скрыт и в «Гробовщике», Адриян говорит: «Нищий мертвец и даром берет себе гроб» — повешенных погребли на казенные средства. И в «Медном всаднике»: «На берегу пустынных волн… / Похоронили ради Бога».
Гибель пятерых руководителей заговора и ссылка остальных участников для Пушкина — незаживающая рана. Вопрос о милосердии к сосланным, об их возвращении — ключевой: «Авось, по манью Николая/ Семействам возвратят Сибирь». Это нравственное условие принятия царя. Его право царствовать основано на способности прощать. Раз Бог прощает. Но Господь прощает людей. А Пушкин в конце жизни уже назвал декабристов «падшими». Читатель сам должен проговорить слово «ангелы», потому что у автора перо не повернется на уподобление «друзей, товарищей, братьев» бесам. Повернется у Достоевского.
Однако «милость к падшим» станет для поэта постоянной темой,