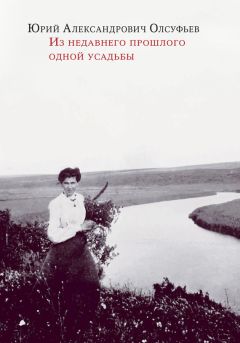Пушкин – почти что “тех же кровей”, что и Ходасевич» [Паперно 1992: 34].
Сурат указывает на рукопись, хранившуюся в архиве А. Ивича (И. И. Бернштейна) в Москве, и датирует ее 1920 или 1921 годом.
Здесь я опираюсь на превосходную статью Д. Малмстада «Ходасевич и формализм: несогласие поэта» [Malmstad 1985]. См. также статью Ходасевича «Памяти Гоголя» (1934) [Ходасевич 1997а: 290–296].
Отношения Булгакова к Мольеру и Пушкину уже становились объектом научного рассмотрения, см., например, [Proffer 1984; Curtis 1987; Milne 1990; 1998].
См. об этом в наиболее значимых биографиях Булгакова [Wright 1987; Proffer 1984; Curtis 1987; Чудакова 1988].
Об этом очерке см. также [Proffer 1984: 80–82].
В. В. Новиков в своей книге отождествляет «Дунек» со спекулянтами, см. [Новиков В. 1996: 25].
Суждение Лакшина представляется нам верным. Булгаков чувствовал, что, указывая на опасности господства идеологии (в особенности когда командуют «необразованные» идеологи, такие как Рокк и Швондер) и показывая, какой абсурдной антиутопией (как в пьесе «Адам и Ева») может обернуться в будущем сложившаяся в Советском Союзе ситуация, он может способствовать созданию более разумной политической обстановки, которая будет более благоприятной для художника.
Так, например, Е. С. Булгакова записала в дневнике 19 ноября 1936 года: «Между прочим, я вспомнила, что вскоре после снятия “Мольера” Яков Л<еонтьевич> рассказывал со слов своего друга Могильного: будто Сталин сказал: “Что это опять у Булгакова пьесу сняли? Жаль – талантливый автор”» [Булгакова 1990: 125].
Чудакова датирует этот фрагмент письма маем 1931 года.
Т. М. Вахитова связывает отношения Булгакова со Сталиным также с положением его предшественников, Мольера и Пушкина, по отношению к Людовику XIV и Николаю I. Она утверждает, что пьеса о Сталине должна была составлять трилогию вместе с пьесами о Мольере и Пушкине. По утверждению исследовательницы, «Сталин стал героем булгаковского мира наряду с Мольером и Пушкиным» [Вахитова 1995: 23].
См. интересный анализ структурных и тематических элементов этой пьесы [Heltai 1986].
Можно связать эту булгаковскую «романтическую драму» с «романтической трагедией» Пушкина «Борис Годунов». К. Эмерсон писала об особом хронотопе романтической трагедии: «Пушкин ограничивает время и пространство пьесы тем миром, который действительно доступен каждому из героев в данный исторический момент, и затем заполняет этот мир случайностями, слухами и произнесенными (а не разыгранными) словами. <…> Получается, что хронотоп (в пушкинском понимании) здесь одновременно и романтический, потому что он совершенно уникален по отношению к проживающему его персонажу, и трагический, потому что герой не может подняться над своей ситуацией, увидеть ее со стороны, выйти за ее пределы» [Emerson 1986: 105]. Такая «связанная с героем перспектива, своего рода ловушки и запугивания», как называет это Эмерсон, присутствует и в «Кабале святош».
Булгакова записала, что получила копию письма, в котором Горький хвалил «Кабалу святош» [Булгакова 1990: 69–70]. Особенно понравился Горькому портрет Мольера на склоне дней, «уставшего и от неурядиц его личной жизни, и от тяжести славы». Булгаковский Мольер задевал Горького за живое: в то время старый писатель хорошо знал, что такое бремя славы.
Название книги «Жизнь господина де Мольера» было, по всей видимости, дано Булгаковой по образцу первой мольеровской биографии, написанной Гримарестом в 1705 году («Vie de Monsieur de Moliere») – возможно, для того, чтобы избежать смешения с книгой Мокульского, изданной в серии «ЖЗЛ». Рабочее название у самого Булгакова было просто «Мольер». Обсуждение заглавия и интересные сравнения различных архивных вариантов названия см. [Ерыкалова 1993].
Похоже, Сталин все-таки испытывал личный интерес к драматургу, хотя Лакшин считает булгаковскую трактовку сталинского интереса к себе своего рода самогипнозом и ошибочным средством самозащиты [Лакшин 1988:31].
Чудакова предположила, что изначальный импульс Булгакова при его обращении к Мольеру был связан с Маяковским и Мейерхольдом – оба они представляли глубоко чуждые Булгакову драматические школы. В связи с пьесой «Баня» Мейерхольд провозгласил Маяковского «новым Мольером» [Чудакова 1988: 326].
Булгаков писал брату в 1933 году: «Уже не помню, который год я, считая с начала работы еще над пьесой, живу в прозрачном и сказочном Париже XVII века» [Булгаков 19906: 487].
См. подробный анализ использования Булгаковым источников в моей диссертации [Brintlinger 1994: 174–191, гл. 3].
Эксперимент, предпринятый исследователем «компьютерной филологии», показал, насколько близки биографии Булгакова и Мольера, а также что из всех булгаковских героев Мольер оказывается ближе всех к своему создателю. См. [Паршин 1994]. Я благодарю Ф. Раскольникова за указание на эту статью.
Хотя многие ученые стремятся уйти от размышлений над вопросом об интересе Булгакова к Сталину, не вызывает сомнения, что Булгаков, так же как Пастернак, Мандельштам и другие, в течение долгого времени не мог поверить, что именно Сталин стоит за цензурой и, в конечном итоге, за всеми репрессиями. Булгаков подчеркивает роль «кабалы», очень сходную с ролью критиков в «Мастере и Маргарите», и тем выдает свою веру в то, что в рамках треугольника вождем может манипулировать злая «третья сила».
Наиболее тонко тема «треугольника» трактуется в «Мастере и Маргарите», где в каждой части романа возникает свой треугольник. В московских сценах Мастер слаб, робок и оказывается не способен бороться за свое произведение, однако его критики наказаны Воландом. Последний представляет собой в каком-то смысле идеальную фигуру государя, освобождающего Мастера от земных мучений и приводящего его к тому состоянию души, о котором мечтал и сам автор – к покою. Но в иерусалимских главах и в финале романа возникает окончательное разрешение противоречий треугольника; наказанный «художник» («добрый человек» Иешуа) становится всемогущим и прощает Пилата, представителя власти, который не смог его защитить. Эта неудача – единственный грех Пилата; именно из-за трусости он поддался идеологам.