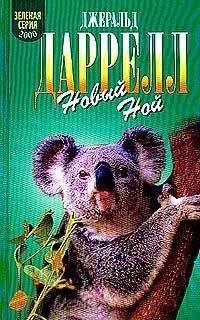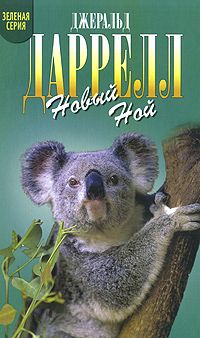Поняв, сколь рискованно таскать звереныша на плече, я начал оставлять его в корзине, но он выглядел таким несчастным и так душераздирающе плакал, пытаясь выбраться, что пришлось придумывать что-нибудь другое. Я достал свою старую куртку и походил в ней несколько дней, как всегда, нося его на плече. Убедившись, что он к ней привык, я просто вешал куртку на стул, а моего нахаленка – на куртку. Детеныш повисал на ней с прежней охотой, видимо не осознавая, что меня внутри уже нет. Может быть, он думал, что куртка – это часть меня самого, что-то вроде шкуры, а ему, в сущности, было все равно, на какой части моего тела зависнуть, он чувствовал себя одинаково счастливо! Даже когда он пытался о чем-то разговаривать со мной на своем певучем языке, ему и в голову не приходило отцепиться от куртки и попробовать прыгнуть мне на плечо.
Впрочем, когда мы прибыли в Ливерпуль, Футл вволю насиделся на мне, позируя фотографам. А те не переставали умиляться – никому из них не доводилось прежде видеть такую крошечную обезьянку. Один репортер, долго наблюдавший за Футлом, обернулся ко мне и заметил:
– Как вам это нравится?! Молоко на губах не обсохло, а какие усищи отрастил!
Уикс, рыжеголовый мангобей, получил такую кличку из-за своего крика. Стоило подойти к его клетке, как он тут же начинал вопить не своим голосом: "Уикс! Уикс!" Он был благородного серого цвета, только полоска вокруг шеи и макушка белые, а голова – цвета красного дерева. Мордашка у него была темно-серая, а веки очень светлые, и, когда, желая поприветствовать вас, он внезапно поднимал брови и моргал, казалось, будто глаза закрываются белыми ставнями.
Уиксу было очень тоскливо одному в клетке – не с кем поиграть! Увы, другой обезьяны такой же породы у нас не было, но он этого не понимал и дулся на меня за то, что я не пускаю его к остальным. В конце концов решил, что, как только я отвернусь, нужно попробовать улизнуть.
Обнаружив между досками небольшую щель, он принялся старательно работать пальцами и зубами, пытаясь расширить ее. Дерево оказалось очень прочным, и ценою колоссальных усилий ему удалось отодрать лишь небольшую щепку. Вообще-то я не спускал с этой щели глаз – мало ли что! – но он-то этого не знал и вел себя так, будто мне ничего не известно. Он часами кусал и царапал дерево, но, заслышав мои шаги, прыгал на жердочку и, закрыв глазки и выставив напоказ белые веки, сидел с самым невинным видом, пытаясь убедить меня, что если какая-то из находящихся в лагере обезьян и повинна в каком-нибудь грехе, то уж никак не он.
Я не стал заделывать дыру в клетке Уикса с расчетом, что, удостоверившись в прочности дерева, он откажется от своей затеи. Ничуть не бывало! Это занятие так увлекло его, что он использовал любой удобный момент. Но я всегда заставал его беззаботно сидящим на жердочке, и, если бы не несколько щепок, приклеившихся к шерсти у него на подбородке, никто и не подумал бы, что он замышляет побег. И вот однажды я решил застать его врасплох.
Я притащил своему пленнику миску с молоком и ушел к другим животным, оставив его в уверенности, что снова появлюсь не ранее чем через час. Освежившись напитком, он занялся стенкой. Я дал ему время окунуться в работу с головой, а затем тихонько пополз вдоль клеток. Сидя на корточках, Уикс с кислой миной пытался отодрать обеими руками огромную щепку, но та никак не поддавалась. Бедняга тянул изо всех сил, разъяряясь все больше и больше и корча самые страшные гримасы. Как только он наклонился вперед посмотреть, нельзя ли просто откусить злополучную щепку, я спросил строгим голосом:
– Что это ты делаешь, безобразник, а?
Он вскочил будто ужаленный и глянул через плечо испуганно и виновато. Я повторил свой вопрос, и Уикс, едва заметно улыбнувшись, опустил свои белые веки. Убедившись, что меня этим не разжалобишь, он как бы в полусне отпустил щепку и, схватив пустую миску, прыгнул на жердочку. Похоже, он был до того смущен, что накрыл лицо миской, но не удержался и свалился на дно клетки. Тут я не выдержал и расхохотался, и безобразник решил, что прощен. Он вновь забрался на жердочку, напялив миску на голову, словно шлем, но опять не удержался. На сей раз он больно ударился головой и, подползя к прутьям, держался за них, пока не пришел в себя.
Теперь, осознав, что мне все известно, он перестал таиться и работал в открытую. Если я журил его, он повторял свой излюбленный трюк – прыгал на жердочку, надевал на голову миску-шлем и шмякался вниз. Я хохотал, а он принимал это за знак прощения и снова принимался за работу. Впрочем, я из предосторожности прибил к обратной стороне кусок проволоки, и когда он это открыл, то страшно разозлился, поняв, что проволоку ему не осилить. Тогда он скрепя сердце оставил мысли о побеге, но не забыл своего трюка, повторяя его всякий раз, когда я на него сердился.
Глава шестая,
В КОТОРОЙ МНЕ ЗАДАЕТ ЖАРУ ШИМПАНЗЕ ПО ИМЕНИ ЧОЛМОНДЕЛИ
Когда шимпанзе по имени Чолмондели попал в нашу компанию, он сразу стал некоронованным королем – благодаря не только размерам, но и необыкновенной сообразительности. Чолмондели был любимцем одного местного чиновника, который, желая отправить обезьяну в Лондонский зоопарк и узнав, что я собираю диких животных и вскоре отбуду в Англию, написал мне письмо, где спрашивал, не захочу ли я взять его питомца с собой. Я ответил, что, поскольку у меня уже имеется крупная коллекция обезьян, лишний шимпанзе не помешает и я буду рад доставить его в Лондон.
Я думал, это будет молоденький шимпанзе примерно двух лет от роду и фута два ростом. То, что я увидел, повергло меня в шок. Однажды утром к лагерю подъехал небольшой фургон с огромной деревянной клетью, в которой поместился бы даже слон. Шофер объяснил мне, что там и есть Чолмондели. "Какой же идиот посылает молодого шимпанзе в такой клети?" – подумал я и открыл дверцу.
"Детеныш" оказался здоровенным громилой восьми-девяти лет. Сидя в темном углу, он казался вдвое больше меня. По морде его было ясно, что поездка была не из приятных. Впрочем, прежде чем я успел захлопнуть дверь, Чолмондели своей огромной волосатой лапой схватил меня за руку и тепло пожал ее. Затем он повернулся и, подобрав цепь (один конец которой был прикреплен к его ошейнику), элегантно вылез из клети. Несколько мгновений он постоял, с большим интересом осматривая лагерь, затем, вопросительно глядя на меня, протянул мне лапу. Так, взявшись за руки, мы вошли в шатер.
Там Чолмондели тут же уселся на один из стоявших около стола стульев, бросил на землю цепь, откинулся назад и скрестил ноги. Некоторое время он оглядывал шатер с весьма презрительным выражением, но, очевидно решив, что тут будет неплохо, снова посмотрел на меня вопрошающим взглядом. Видимо, он хотел, чтобы я угостил его чем-нибудь после столь утомительного путешествия. Меня предупреждали, что он страстный любитель чая, так что я вызвал повара и распорядился поставить чай, а сам отправился осмотреть клеть, в которой привезли моего гостя. Там я обнаружил огромную и порядком избитую жестяную кружку, которой Чолмондели несказанно обрадовался и даже похвалил меня за сообразительность, издав несколько радостных "ху-ху".
Пока мы ждали чай, я сел напротив и зажег сигарету. К моему удивлению, он разволновался и через весь стол протянул ко мне свою лапищу. Гадая, что же он собирается делать, я дал ему пачку. Он открыл ее, вынул сигарету и зажал между губами. Потом снова протянул ко мне лапу, и я дал ему спички. К моему изумлению, он достал спичку, зажег ее, прикурил и бросил коробок на стол. Развалившись на стуле, он пускал дым, как самый заядлый курильщик. О том, что Чолмондели курит, мне не сообщал никто. Я испугался, не водятся ли за ним еще более дурные привычки, о которых меня не предупреждал его прежний хозяин.
Как раз в этот момент подали чай, на что Чолмондели отреагировал громкими и выразительными возгласами радости. Пока я наливал ему в кружку молоко и добавлял чай, он пристально наблюдал за мной. Мне рассказывали, что он страшный сластена, поэтому я насыпал ему целых шесть ложек сахару; он довольно заурчал. Затем положил сигарету на стол, схватил кружку, осторожно выпятил нижнюю губу и погрузил ее в чай, чтобы убедиться, что он не слишком горячий. Чай был едва теплый, но шимпанзе принялся энергично дуть на него, пока тот совсем не остыл, и выпил кружку залпом. Допив последние капли, он указательным пальцем выскреб из кружки сахар. Чайная церемония завершилась тем, что он повесил себе кружку на нос и так сидел минут пять, пока весь оставшийся сахар не стек ему в рот.
Я поставил клеть Чолмондели на некотором расстоянии от шатра, а конец цепи прибил к толстому стволу дерева. Так, подумал я, он не будет особо досаждать ни мне, ни другим обитателям лагеря, но сможет наблюдать за всем, что происходит, и переговариваться со мной на своем таинственном языке "ху-ху". Но в первый же день своего пребывания в лагере Чолмондели задал мне жару.