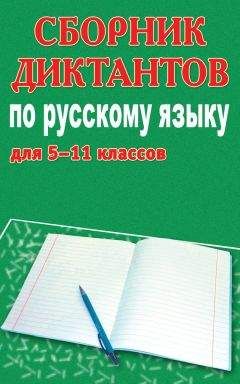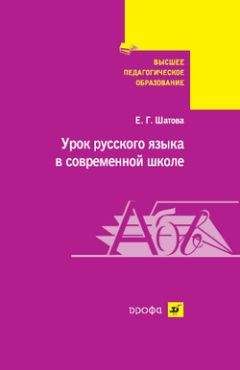Ознакомительная версия.
В узком овражке отстал от старой березы почти у самого комля кусочек коры, отъединился, образовав темную расселинку. И попрятались в ней от вьюги синички, прижались друг к дружке, присмирели, и видны оттуда, из темноты, одни лишь синичьи клювики и глаза. И речка спряталась под снегом, только на середине осталось одно черное оконце, через которое и можно ей поглядеть на небо.
Я подъезжаю поближе и вижу в то оконце, что не спит речка, живет она, струится, видно ее чистое песчаное дно.
Весь день веселилась метель, все прикрыла, все запеленала, всех убаюкала своей вьюжной песней, ничего не обошла. Куст можжевельника спрятался, стал белым, пухлым, неколючим, скрылись под снегом кочки, пни, канавы. Но, наконец, отгуляла свое вьюга, устала, успокоилась. Снежинки уже опускаются лениво. С наскоро наметенных сугробов только летит снежная пыльца. А вот и ветер стих, и стало кругом тихо, цепенеет в безмолвии и поле, мягкое, чистое, чуточку бархатистое.
Я люблю такую метель, не дикую, страшную, не степной буран, но такую вот русскую, что любит, однако, лихо пройтись по полю, повеселиться, поозоровать. На то она и зима.
Тишина в лесу происходила от того, что свет, задержанный многоэтажной хвоей, не шумел, не звякал, а, казалось, осторожно окутал землю.
Они шли по-прежнему молча, они были вместе, и только от этого все вокруг стало хорошим, и пришла весна.
Не условившись, они остановились. Два отъевшихся снегиря сидели на еловой ветке. Красные толстые снегирьи грудки показались диковинными цветами, раскрывшимися на заколдованном снегу. Странной, удивительной в этот предночной час была тишина.
В ней была память о поколении прошлогодней листвы, об отшумевших дождях, свитых и покинутых гнездах, о детстве, о безрадостном беспрестанном труде муравьев, о вероломстве и разбое лис и коршунов, о мировой войне всех против всех, о злобе и добре, рожденных в одном сердце и вместе с этим сердцем умерших, о грозах и неистовом громе, от которого вздрагивали души зайцев и стволы сосен. В прохладном полусумраке, под снегом спала ушедшая жизнь – радость любовных встреч, апрельская неуверенная птичья болтовня, первое знакомство со странными, а потом ставшими привычными соседями. Спали сильные и слабые, смелые и робкие, счастливые и несчастные. В опустевшем и заброшенном доме происходило последнее прощание с умершими, навсегда ушедшими из него.
Но в лесном холоде весна чувствовалась напряженней, чем на освещенной солнцем равнине. В этой лесной тишине была печаль большая, чем в тишине осени. В ее безъязыкой немоте слышался вопль об умерших и яростная радость жизни…
Еще темно и холодно, но совсем уж скоро распахнутся двери и ставни, и пустой дом оживет, заполнится детским смехом и плачем, торопливо зазвучат милые женские шаги, пройдет по дому уверенный хозяин.
(По В. Гроссману)
Было еще совершенно темно, когда легким прикосновением к плечу разбудил меня слуга-малаец в моей маленькой спальне, говоря мне, что провожатый из ботанического сада ждет меня и торопит, чтобы не опоздать на поезд железной дороги. В полумраке ночи (ибо было еще только половина шестого, а солнце встает здесь почти ровно в шесть) я почти ощупью отыскивал принадлежности своего костюма, отказываясь от тех услуг, которые предлагал мне мой служитель, привыкший здесь, на Яве, помогать одеваться приезжим господам, в этом отношении совершенно еще сохранившим привычки наших бар времен крепостного права. Трепетный свет лампадки слабо озарял тесный номер. Странно как-то было видеть эту принадлежность божницы благочестивого православного дома здесь, на Яве, в другом полушарии, в иной совершенно обстановке, у людей иной религии. Конечно, здесь не было образов и назначение лампадок было другое: освещать комнату, заменяя свечи, лампы и иные светильники, принятые в европейских домах большей части образованного мира. В маленьких, полутемных каморках, какие представляют из себя номера яванских гостиниц, это обычное, можно сказать единственное, общепринятое освещение. И немного надо пожить, чтобы убедиться, что не рутина, не стремление сохранить старый обычай, но сама необходимость заставляет европейца и туземца прибегать к этому источнику света, столь многое напоминающему закинутому в даль чужеземных стран русскому путешественнику.
Спальня, или, говоря по-нашему, номер гостиницы, действительно предназначена здесь только для сна. Кому охота остальную часть дня при двадцатидвухградусной жаре мягкого тропического воздуха, сохраняющего одну и ту же температуру и лето и зиму, сидеть в комнате, когда для этого есть веранда, широкая и просторная, где стоит ваш стол для занятий, где висит лампа, где вы обыкновенно и проводите ваше время.
В комнату же вносить свет вечером и небезопасно. На него отовсюду полетит великое множество бабочек, крылатых муравьев, этих распространеннейших из тропических насекомых; они усыплют вам весь стол и, чего доброго, привлекут за собою и более неприятных и опасных охотников за ними. И так настороже постоянно по стенам бегает около десятка ящериц серовато-палевого цвета, нельзя сказать чтобы особенно красивых, но чрезвычайно любимых не только туземцами, но и европейцами. Эти гэкко, как их прозвали за их крик, свободно бегают по стенам и по потолку и истребляют всякое появляющееся насекомое, предотвращая этим самым появление пауков, гостей под тропиками не особенно желанных, а иногда и очень опасных. Благодаря гэкко вы их не видите в малайском доме, вы можете жить здесь в такой же безопасности от всякого гада, как в петербургской квартире, и за это вы, конечно, миритесь с не совсем привлекательной внешностью этой ящерицы, почти столь же необходимой обитательницы яванского дома, как черный таракан великороссийской кухни.
(По А. Краснову)
Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен, сорные травы густо разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решетка с колышками, обделанными в виде четырехгранных пик, когда-то выкрашенная зеленой масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась, пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчишки.
А цветник от этого разрушения стал нисколько не хуже. Остатки решетки заплели хмель, повилика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелеными пучками, с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов.
Колючие чертополохи на жирной и влажной почве цветника достигали таких размеров, что казались чуть не деревьями. Желтые коровяки по дымали свои усаженные цветами стрелки еще выше их. Крапива занимала целый угол цветника; она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться ее темною зеленью, особенно когда эта зелень служила для нежного и роскошного бледного цветка розы.
Она распустилась в хорошее майское утро; когда она раскрывала свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно плакала. Но вокруг нее все было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего в ее тонкие лепестки розовым светом; в цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле плакать, то не от горя, а от счастья жить.
(По В. Гаршину)
Васек, как звали его и отец с матерью, и бабка с дедом, и все соседи, и погодки, с которыми он с утра до темной ночи пропадал на улице, белоголовый пятилетний мальчуган, взбрыкивая, слепой от восторга, несся навстречу солнечному ветру верхом на ореховой палке, а сзади, визжа, подстегивал ее гибкой хворостиной. Опушка березового леса была не то что наполнена, а словно налита до краев солнечным светом, воздух от этого был какой-то золотистый. Отражаясь от ослепительно белых стволов берез, солнечный свет на легком сухом ветру дробился, разлетался радужными осколками; было больно смотреть, не прищурив глаз. И Ваську больно глазам, и он несется по лесу, почти зажмурившись, вслепую, но солнце прорывается и сквозь веки; белые стволы берез мелькают вперемежку с радужными пятнами света, и по высокой и сочной майской траве повсюду развешаны большие ярко-синие лесные колокольчики; в упоении жизнью Васек не щадит их, рубит хворостиной на бегу, и они, переламываясь в стебле, опадают лиловыми пятнами в густую, сочную зелень.
Васек круто заворачивает и удивленными, сразу широко раскрывшимися глазами осматривается. Он успел забежать довольно далеко; он был в низине, толсто устланной опавшей прошлогодней листвой с пробивающейся сквозь нее острой и редкой травой. Солнце тут до земли не доходило, солнечный ветер вовсю бушевал где-то там, над плотно сомкнувшимися кронами кленов, ясеней, а у земли была тишина, и даже ветер сюда не прорывался. Васек слегка повернул голову, и холодная дрожь сладко облила его с головы до ног. Вывороченное из земли дерево, судорожно выставившее вверх причудливо перевитые корни, поначалу показалось ему огромным живым существом, готовым вот-вот броситься на него. Отец рассказывал, что в лесу водятся и волки, и дикие кабаны, и даже медведи; вывороченные, вставшие дыбом корни и показались ему вначале медведем.
Ознакомительная версия.