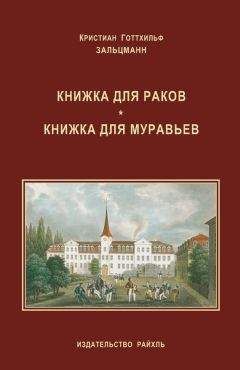Ознакомительная версия.
Тон, которым иные воспитатели говорят со своими воспитанниками, особенно если те знатного происхождения, бывает слишком робким, слишком застенчивым, ему недостает решительности. Подобно тому как конь по дрожанию бедер своего наездника вскоре догадывается о его боязливости и отказывается ему подчиняться, точно так же молодые люди по робкому тону, которым говорит воспитатель, вскоре начинают чувствовать, что тот их не превосходит, и не особенно с ним считаются.
У других воспитателей тон, которым они говорят, слишком сухой, слишком однообразный. Если послушать их, то можно подумать, что свои наставления они вычитали из книги.
Такие наставления тоже ничего не дают. От детей нельзя ожидать, что они много воспримут из связной лекции, поймут ее смысл и будут о нем размышлять. Тон, мимика, манеры выступающего должны донести до них содержание речи, иначе ее воздействие окажется незначительным.
«Я умираю и плачу», – сказал, улыбаясь, один известный проповедник в заключение надгробной речи, которую он прочел на могиле своего собрата. И никто не проронил и слезы. Быть может, в этом было повинно бессердечие слушателей? Отнюдь – в этом была повинна улыбка на лице оратора, когда он сказал: «Я умираю и плачу». Если бы он завершил речь с выражением скорби на лице и поднес к глазам носовой платок, то добился бы большего, даже если бы вообще ничего не сказал.
Наконец, тон иных воспитателей слишком властный. С гордым видом они глядят сверху вниз на своих приемных сыновей, как гордящийся своим благородным происхождением офицер на свою компанию, и каждое наставление, каждое напоминание имеет форму деспотичного приказа. Каков будет от этого эффект? Неприязнь и строптивость. Ценящий свободу человек испытывает естественную неприязнь к любому жесткому, авторитарному обращению, и нельзя ему ставить в вину, если он выражает ее по отношению к своим деспотичным воспитателям.
Тут я должен еще сказать о капральском тоне, вошедшем в привычку у иных воспитателей, старающихся придать вес своим наставлениям и предписаниям тычками и затрещинами. Но поскольку о нем уже так много говорилось, а непригодность его общепризнанна, то я считаю излишним еще что-либо о нем говорить. Между тем каждому молодому человеку, умеющему направлять юношей не иначе как пинками и затрещинами, я советую полностью отказаться от воспитания, потому что он и сам радости от него не получит, и ничего хорошего не принесет. Пусть уж он лучше постарается стать капралом или устроится надзирателем, там он будет на своем месте.
Все, что до сих пор было сказано, в достаточной мере доказывает, что многие воспитатели должны себе приписать причину недостатков своих воспитанников, потому что им недостает умения от них отучить.
Зачастую они их им даже и прививают.
«Что ж, – подумает большинство читателей, – ко мне это не относится, я учу моих воспитанников их обязанностям и своими наставлениями стараюсь сделать их хорошими и деятельными людьми». Охотно в это верю. Я не сомневаюсь, что среди моих читателей нет никого, кто призывал бы своих воспитанников к лености, лживости, неуживчивости и к другим порокам. Но из этого еще не следует, что этим порокам они их не научили. Разве нельзя научить пороку своим примером? Разве он не действует на юношей сильнее, чем наставление? К примеру, ты ратуешь за прилежание, а сам ленив, приходишь на свои занятия в дурном настроении, жалуешься на то, что много работы, часто выражаешь желание освободиться от своих дел; ты призываешь их к правдолюбию, а сам лжешь; говоришь, что хочешь навестить друга, а сам украдкой пробираешься в трактир к игорному столу; переносишь свои уроки под тем предлогом, что заболел, но при этом не болен; требуешь от своих воспитанников терпимости, а сам постоянно бранишься с людьми, которые с тобою связаны. Ты представляешься мне учителем языка, умеющим очень хорошо преподносить теорию речи, а сам говоришь и пишешь с ошибками. Если твои ученики делают то же самое, то разве тогда нельзя сказать про тебя, что ты обучил их ошибкам против грамматических правил?
Далее, нельзя ли научить также порокам и недостаткам манерой обращения?
Я в этом уверен. Если, к примеру, ты строго наказываешь любую шалость, любой опрометчивый поступок, любую оплошность своего питомца, то чему ты его научишь? Лживости. Ему в силу своей юношеской природы попросту необходимо иногда проявлять озорство, вести себя безрассудно, где-то недосмотреть; а если он знает, что ты за все это строго караешь, что он будет делать? Он будет пытаться скрывать от тебя свои промахи, отпираться, станет лжецом. Ты злоупотребляешь доверием, проявленным к тебе твоим питомцем, ты выбалтываешь секреты, которые он открыл тебе как своему другу, публично выговариваешь ему и за это его стыдишь. Чему ты учишь его? Скрытности. Можешь ли ты всерьез требовать, чтобы этот молодой человек доверял тебе свои тайны, если ты не умеешь их хранить? Разве будет он с тобой откровенен, если за чистосердечность ты делаешь из него преступника? Только простак, глупец будет так делать; мальчик, который себя сознает и может судить о неправильности твоего поведения, лишит тебя своего доверия и доверится людям, которые лучше хранят его тайны.
Если ты не стараешься удовлетворить жажду деятельности своих воспитанников, если, чтобы их занять, ты не даешь им в руки ничего, кроме книг и перьев, то чему ты их учишь? Целому ряду пороков, подробный список которых мне не хочется здесь приводить. Жажда деятельности дана раз и навсегда, это благотворный дар Творца, стальная пружина, которую он вставил в юношеский механизм. Книги и перья неспособны ее утолить, ибо для того чтобы ими пользоваться, нужно размышлять, а это уже – дело разума, который у мальчиков пока только развивается; и даже если книгами и перьями во многих случаях могут пользоваться без размышления, постоянное их применение все же слишком однообразно, чтобы соответствовать характеру мальчиков[31], любящих разнообразие. Поэтому мальчики, которых приковывают к книгам и письменному столу, испытывают скуку. Если иных удается к ним приучить, то жажда деятельности подавляется и они становятся вялыми и ленивыми; если это не удается, как в большинстве случаев и бывает, то сдержанная жажда деятельности прорывается и переходит в распущенность, первыми проявлениями которой обычно бывают тайные грехи. Кто их этому научил? Воспитатель. Тому, кто хочет больше узнать о разнообразных методах, которые позволяют привить детям дурные наклонности, я рекомендую «Книжку для раков, или наставление по неразумному воспитанию детей».
В-третьих, воспитатель виноват в недостатках и пороках своих воспитанников также и тем, что он им их приписывает.
Если послушать, как иные воспитатели изображают своих воспитанников, то хочется ужаснуться и пропадает всякое желание посвятить себя такому благотворному делу воспитания. Ни малейшего побуждения сделать что-то полезное, невыносимая леность, безрассудность, неуживчивость, коварство, злоба; это орда грубых, неотесанных мальчишек, с которыми ничего невозможно поделать.
Образованный воспитатель улыбнется при этом, потому что он понимает, что по большей части эти пороки придуманы воспитателем, объявляющим пороками то, что все же является неизбежными свойствами детства.
Каким бы сочли отца, который грязными словами отругал бы своего месячного ребенка, потому что тот испачкал пеленки; или садовника, который весной пожаловался бы на то, что на всех своих вишнях не нашел ни единой ягоды, а обнаружил только цветки? Наверное, мы бы сочувственно посмеялись над ними.
Но многие воспитатели поступают отнюдь не разумнее. Они делают из своих воспитанников преступников, когда те ведут себя так, как обычно ведут себя и должны вести себя дети, и требуют от них поведения, которое может быть лишь продуктом развитого ума, а он у них еще мал; они ищут плоды, когда деревья еще только цветут.
Послушаем об этом разговор между господином Коридоном и его другом господином Ментором. «У моих воспитанников, – говорит господин Коридон, – нет никакой степенности. Как мне их приучить ходить степенной походкой? Они только прыгают, скачут и бегают».
Ментор. Так? Но это же здорово. Я был бы очень недоволен, если бы мои воспитанники ходили как марионетки. Мальчик должен прыгать, скакать и бегать, если он чувствует в себе силы.
Коридон. Ни следа размышления.
Ментор. И вы этому удивляетесь? Но что размышляет в человеке? Не правда ли, разум? Откуда же взяться размышлению у мальчиков, чей разум еще не развился?
Коридон. Ничего, кроме мальчишества, у них нет.
Ментор. Это потому, что они – дети.
Коридон. Если дается сигнал к уроку, то они идут так медленно, с таким недовольством, что теряешь терпение; но если они идут на площадку для игр, то надо видеть, с какой радостью они туда спешат, как будто предназначение человека – играть.
Ознакомительная версия.