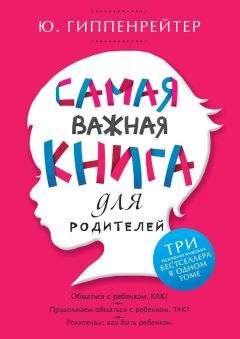Ознакомительная версия.
И чего это они там не ждали! И кто такой Мусоргский?
Наверное, Корней Иванович был в своем гневе несправедлив, не прав, и уж во всяком случае, непедагогичен. Гораздо правильней было бы с его стороны просто объяснить мне – спокойно, весело, полунасмешливо, как он это великолепно умел, что дети, здороваясь со взрослыми, должны всегда снимать перчатку. Ведь объяснил же он Коле, раз и навсегда, без всякого крику, что мальчик, переступая порог любого дома или здороваясь на улице с любым человеком, должен прежде всего снять шапку. Зачем же тут надо было на меня кричать? Да еще, проваливаясь в снег по пояс и принеся перчатку от забора, колотить меня ею изо всех сил по плечу, будто бы стряхивая снег, а на самом деле от непрошедшей злости?
Но как я благодарна ему теперь за эту неправоту, за эту несправедливо нанесенную мне обиду!
За этот поучительный гнев, которым он разразился, когда ему почудилось, будто я с недостаточным уважением прикоснулась к руке, протянутой мне искусством!
* * *
Исключительное преклонение отца перед мастером помешало в этом случае понять чувства и замешательство ребенка. Со своей горячностью он хотел сразу внедрить в сознание девочки ощущение необыкновенной ценности искусства. Конечно, можно сказать, что «непедагогично» и «обидно». Но дети, как правило, прощают взрывы, если видят, что для взрослого это абсолютно всерьез!
Чуковскому удавалось передавать детям безусловные принципы и ценности потому, что он ими жил, а еще и потому, что огорчения от его взрывов составляли маленькую толику того счастья, в которое он их погружал.
Вот описание впечатления от поэзии, которой отец «очаровывал» своих детей.
«Зыбь ты великая! Зыбь ты морская!»
И здесь, на Финском заливе, ясный солнечный день, мерные взмахи весел, ожидающие лица детей рождали в нем жажду читать стихи. Жажда эта жила в нем неутолимо: поэзия смолоду и до последнего дня была для него неиссякаемым источником наслаждения. Стихи он читал постоянно и всегда вслух: себе самому, один на один, у себя в кабинете, Репину в мастерской и репинским гостям в беседке; захожим студентам на песке у моря; друзьям-соседям: Николаю Федоровичу Анненскому, Татьяне Александровне Богданович и Короленко, нам по дороге на почту. И уж конечно в море. Тут, в море, он давал себе полную волю. Ритм волн и ритм гребли естественно выманивали в ответ ритмический отклик.
Никогда я не слышала чтения более пленительного. Как будто все черты его личности собирались в эти минуты в голосе, в интонациях, в губах, которые льнули к звукам, в звуках, которые льнули к губам.
В голосе его, когда он читал великую лирику, появлялось некое колдовство, захватывавшее и его и нас. На страницах своих сочинений он не раз говорит, что смолоду привык «упиваться стихами». Упоение заразительно. Наверное, потому мы и упивались, слушая, что он упивался, произнося. И все стихи, которые я узнала потом, одна, сама, без него, звучание всех на свете стихотворных строчек, кто бы их ни произносил, навсегда связаны для меня с моим детством и его голосом.
– Зыбь ты великая! Зыбь ты морская! – начинал он, закидывая весла и чуть-чуть раскачиваясь. – Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты, —
читал он широким, певучим, страстным, словно молящимся голосом, и мне казалось, что теперь уже лодка покоряется не волнам и веслам, а весла и волны – и все вокруг – звучанию голоса.
* * *
Итак, образ отца – Корнея Ивановича Чуковского, – как он встает из воспоминаний его дочери, оставляет у читателя незабываемое впечатление. Что же говорить о том, каким он казался его детям! Можно найти много слов, которые описывали бы их чувства к отцу, но все они, скорее всего, будут неполными и недостаточными. Это, конечно, и горячая любовь, и обожание, и восхищение, и вера в его необыкновенность. Ко всему этому нужно прибавить еще «чувство принадлежности», то есть убеждение, что он принадлежит им («изготовлен для нас в одном экземпляре»), а они – ему. Знать и чувствовать, что у тебя не просто есть папа, но что ты ему очень нужен, что он, безусловно, «твой» – бесконечное счастье для ребенка; и такими знанием и чувством пронизана каждая строчка воспоминаний Лидии Чуковской.
Как же это получалось? Можно было бы сказать, что, несмотря на свою постоянную занятость и порой изнуряющий труд, Корней Иванович находил время для детей. Но это были бы бледные и неточные слова. Он не просто находил время для детей, а жил с детьми, постоянно с ними играя, занимаясь их учебой и образованием, делясь с ними своей любовью к стихам и литературе. И все это он делал так же ярко, эмоционально, страстно, как и работал, как и жил вообще. Он отводил детям не время, а часть жизни. Можно думать, что и вспышки отцовского гнева, когда они случались, дети воспринимали как продолжение его горячей заинтересованности в них, и в душе его прощали.
Все это ему удавалось потому, что он был «ребячливым папой» (как его называли) и в то же время умным, мудрым взрослым, глубоко любившим и понимавшим детей – не только своих, но и других, как и детство вообще.
Можно предположить, а на самом деле так это и было, что увлекательное и увлекающее общение с детьми питало талант и чуткую мудрость писателя Корнея Ивановича Чуковского, так же как он своим эмоциональным талантом обогащал жизнь своих и всех читающих его детей.
Г.Л. Выгодская
«Просто жизненно необходимо»[25]
Лев Семенович Выготский (1896–1934) – создатель культурно-исторической теории психики, основоположник одного из наиболее значительных направлений в отечественной психологии и психологии развития ребенка. Его яркая жизнь оборвалась, когда ему было всего 37 лет, но он успел написать фундаментальные работы, которые принесли ему всемирную известность.
«Глазами дочери» – так назвала Г.Л. Выгодская одну из глав книги об отце. В ней личные воспоминания детства. В этих воспоминаниях Г. Выгодская рассказывает о том, каким человеком был ее отец, кем он был для нее, и как складывались их взаимоотношения. Л.С. Выготский скончался, когда Гите Львовне было всего 9 лет, а писала она свои воспоминания, спустя более полувека. Несмотря на такой срок, мы видим, какой неизгладимый, и значимый след оставил отец в жизни дочери.
Отрывки воспоминаний сгруппированы в небольшие тематические рубрики; предваряющие их фразы взяты из текста автора воспоминаний.
«Непередаваемое чувство защищенности»
Есть люди, события, которые не забываются, которые память хранит всю жизнь. Очень живо помню я Льва Семеновича, помню все, не только его облик, но и его слова, его поступки, все события, связанные с ним. И если ряд моментов жизни, событий, постепенно тускнеет в памяти, то все, что связано с отцом, остается таким ярким и четким, что порой кажется, что это было только вчера.
Конечно, я была тогда ребенком, причем самым заурядным ребенком, поэтому я не могла понять и оценить, что это был за ученый. Моя память сохранила его как доброго, любящего отца, каким он был до последних дней своей жизни. Я помню отца с тех пор, как помню себя. Но это, по большей части, отрывочные, фрагментарные воспоминания, иногда такие яркие, что напоминают отдельные переводные картинки.
Мои последовательные воспоминания, пожалуй, можно отнести к весне 1929 г.[26] Очень хорошо помню, как мы ехали провожать моих родителей, уезжавших в Ташкент, дорогу домой и пустоту вокруг, которую я ощутила, войдя в квартиру. Все были ко мне внимательны, добры, но мне было пусто. Пожалуй, то, что я испытывала, можно назвать дискомфортом. Вот тогда впервые я не поняла, конечно, еще, но почувствовала, что такое для меня отец и какое место в моей жизни он занимает. Это было очень странно, ведь росла я в большой семье, да и отец не мог уделять мне много времени. Но, видимо, то, что он давал мне в то время, что мог уделять мне, было для меня очень важно, было просто жизненно необходимо.
В детстве я очень плохо переносила поездки в транспорте – мне становилось плохо, меня неизменно укачивало. Поэтому, если случалось меня куда-нибудь везти, приходилось ехать на извозчике. Хорошо помню эти поездки!
Мы садились в пролетку, лошадь неспешно шла, и мы долго ехали к нашей цели – через Крымский мост на Арбат. Почему-то больше запомнились зимние поездки. Мы сидим с папой, плотно прижавшись друг к другу, верх у пролетки поднят, так что идущий снег нас не мочит. Лошадь мерно идет, покачивая головой; снег хлопьями падает на землю, так что окружающее видно, как сквозь кружево; папа негромко разговаривает со мной. Как хорошо! Ощущения, испытанные тогда, сохранились на всю жизнь.
Иногда мы едем вместе с мамой. Папа тогда выглядит совсем счастливым. Он попеременно говорит то с мамой, то со мной, то затевает общий разговор, чтобы я не чувствовала себя лишней. Он все время дает мне почувствовать, что его радует мое присутствие рядом. (Оно никогда не тяготило его.) Даже тогда, когда он говорит с мамой – в этот момент он или плотнее обнимает меня, или крепко берет за руку и время от времени пожимает ее. Да, я все время чувствую, что папа ни на минуту не забывает обо мне, что я нужна ему. Все это дает непередаваемое чувство защищенности, близости, уверенности в том, что ты нужна. Как все это в детстве необходимо!
Ознакомительная версия.