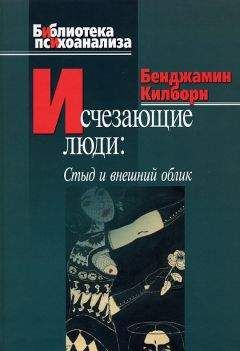Ознакомительная версия.
Окруженный музыкальными шкатулками, Ле Шеснай служит символом порядка – впрочем, порядка механического и безжизненного. В мире ля Колиньер он «работает», как работают его музыкальные шкатулки. О женщинах, по которым он страдал в своей жизни, Ле Шеснай говорит с Марсо таким же бесстрастным тоном, которым обычно говорит на официальных выступлениях. Каковы бы ни были его желания, какова бы ни была боль, его чувство внешнего приличия очерчивает образ самого себя в том, что он воображает (и что представляется) глазами мира. На открытии маскарадного театрального представления с новейшей и самой изощренной музыкальной шкатулки Ле Шесная снимают покрывало, ее устанавливают на сцене и открывают всеобщему обозрению – как это произойдет с различными персонажами в маскарадных костюмах.
В заключительной сцене Ле Шеснай с неожиданной иронией замечает относительно Жюрё, которого только что застрелили, что «он так хорошо знал, как заставить нас забыть, что он герой». В последних кадрах он в защиту гостей и внешнего мира произносит речь о том, что, застрелив Жюрё, Шумахер совершил простительную ошибку. Огни гаснут, и фильм заканчивается. Когда Ле Шеснай закрывает двери в замок и велит всем возвращаться в постель, он механически вновь закрывает крышкой ящик Пандоры и предоставляет доказательство того, что шестеренки машины все еще вертятся, фигуры поворачиваются и крутятся в пируэтах.
В своем романе «Вертится!» Пиранделло описывает давящую атмосферу, царящую в домах, совершенно подходящих по духу замку Ле Шесная, где мебель и люди кажутся декорациями.
«Я никогда не понимал, как определенные предметы обстановки могут не вызывать если не настоящее страдание, то по крайней мере досаду: мебель, к которой мы не осмеливаемся приблизиться сколько-нибудь уверенно, поскольку похоже, что она поставлена здесь, чтобы предупреждать нас с жесткой, элегантной грацией, что наш гнев, наше горе, наша радость – будь то ярость, энтузиазм или восторг – не должны выходить за рамки, но обязаны следовать правилам хорошего тона. Дома, сделанные для остального мира, с учетом той роли, которую мы намереваемся играть в обществе; дома для внешнего вида, где даже мебель вокруг способна вогнать нас в краску, если в какой-то момент мы обнаруживаем, что ведем себя не соответствуя ни этому внешнему виду, ни роли, которую должны играть»[158].
Ле Шеснай вынужден любой ценой играть свою роль; он должен следовать правилам игры, каким бы несчастным при этом он себя ни чувствовал. Представиться миру он может лишь механическим хозяином, во всем подобным тем механическим птицам, которыми он так гордится.
По существу, персонажи Ренуара соответствуют тому, как их видят другие, однако никогда не оказываются целостными, понятными друг другу. Никоим образом они не являются теми «сознательными Я», которые, по модели Руссо, могут соглашаться или не соглашаться заключать с обществом контракты, поскольку их психическая реальность состоит в осведомленности о том, как они выглядят, откликаясь на внешний вид, маски и притворство других. Это придает вес замечанию Октава, что самое в ужасное в людях – наличие у каждого «своих причин». Существуют частные, дьявольски тайные причины, от которых зависит внятность внешних проявлений. Они обязательно скрыты, остаются втуне, подразумеваются, но никогда не достижимы. Когда в начале фильма Марсо объясняет Ле Шеснаю (и Шумахеру), что пошел на браконьерство, чтобы помочь своей престарелой матери, Шумахер отвергает подобные «причины» как абсурдную выдумку. Когда Женевьев, бывшая любовница Ле Шесная, хочет, чтобы Ле Шеснай ее поцеловал, то выдвигает следующую причину: она хочет закрыть глаза и поверить, что все осталось таким же, как и три года назад, до его брака с Кристин. Женевьев хочет инсценировать утраченное время, вообразить то, чего нет или уже нет, и просит в этом помощи.
Гораздо глубже, чем интрига с Жюрё, выявляющая прихоти французской аристократии – на эту тему был израсходован океан чернил – залегает зловещая тема: «но мы должны играть свои роли». Как персонажи Пиранделло должны играть себя (а не актеры должны играть их), должны «играть себя» и персонажи Ренуара. В обоих случаях этот факт придает неистовую окраску тем обрывочным сюжетам, которые пытаются проживать персонажи, словно каждый из них рвется отобрать у другого то, что могло бы облегчить боль и отчаяние. Когда Кристин уходит с Сент-Обеном, очевидно, чтобы лечь с ним в постель, она говорит: «Хватит с меня этой игры». Однако игра – это все, на что они способны, поскольку альтернатива ей – оставаться беспомощно заточенными в «обездвиженности жизни» (выражение Пиранделло)[159], пригвожденными к ней. Как говорит Леоне Гала в «Правилах игры» Пиранделло– пьесе, которую играют шесть персонажей, – «Когда совершается факт, он стоит здесь, как тюрьма, и замыкает тебя в себе». Первичная защита против этих фактов в мире как Пиранделло, так и Ренуара заключается в том, чтобы воображать, а затем не выдавать никому (зачастую и самому себе) степень погруженности в воображаемое. Результатом становится изоляция и защитный обман.
Жюрё может служить выходом из «обездвиженности жизни» лишь до тех пор, пока остальные верят, что он герой. Но Жюрё не может и не будет играть героя, так же, как Отец в «Шести персонажах» не может позволить себе вообразить, что его будет играть актер[160]. Отец поясняет: то, что для актера является «поводом создать иллюзию, для нас является единственной нашей реальностью…» Но и Ренуар, и Пиранделло разуверились в самой возможности каким-либо образом показать, что является важным или реальным.
Обман, отрицание, честь и правила игры
В двух темах – охоты и костюмированного бала – ветреность и смерть движутся к столкновению друг с другом. Тех, кто неспособен играть по правилам, либо убивают, как добычу (Жюрё), либо изгоняют (Октав, Шумахер и Марсо). Суете кроликов, куропатки и фазана, что кидаются врассыпную в сцене охоты, вторит суета гостей в сцене костюмированного бала, когда Шумахер в бешенстве гонится за Марсо. Когда не следуют правилам, воцаряется безудержный хаос. Под пустыми правилами игры лежат надвигающиеся проклятие и несчастие войны, которых не могут предотвратить никакое отрицание и никакие попытки установить контроль.
Жюрё не способен сыграть роль народного героя; Шумахер не способен сыграть роль верного слуги, он позволяет ревности (предмет которой – его жена Лизетта) пересилить чувство долга; Марсо не способен сыграть роль одомашненного хитрого браконьера, он выходит за ее пределы и соблазняет жену Шумахера; и Октав, который соблазнил практически всех женщин в замке, выходит за рамки, навязывая Жюрё ле Шеснаю. Поскольку Жюрё, Октав и Марсо ставят свои чувства выше уважения к контексту, они угрожают самому основанию социального порядка.
Однако социальный порядок – не просто обычное понятие класса. Ренуар помещает социальный порядок в Супер-Эго своих персонажей; это идеалы, к которым они стремятся и которых не достигают, и то, каким образом эти идеалы питают отрицание, вкупе с порожденным им стыдом, движет их адскую машину. Винникоттовский переходный объект, указывающий на фундаментальную проблему неподлинности. Но психологически значения «подлинного» и «поддельного» не исключают способа, которым внутренние переживания подлинности и поддельности познаются другими. Если человек играет роль, как Ле Шеснай или Октав, это не обязательно означает, что роль эта навязана, и под ней обездоленная подлинная самость в героических муках борется за избавление от пут (как, например, Октав стремится избавиться от костюма медведя). Ведь фильм на самом деле не о героизме или желательности быть сильным или честным, подлинным или откровенным. В мире ля Колиньер не предусмотрена возможность героизма, разве что на службе отрицания и самообмана. Возможно, Ренуар в 1939 году ощущал, что героизм мертв: существует только обман и масса самообмана, маски и масса масок. По случаю своего восемнадцатилетия Ренуар писал:
«Старость лицемерна и наползает, не осознавая своих жертв. Я тщательно рассматриваю себя в зеркале. Мое лицо не изменилось. Черты остались те же, но это мало о чем говорит: разве я не повторял сотни раз, что люди носят маски? Перед моими глазами одна лишь видимость. Под этой видимостью я ощущаю другую личность, тайную и загадочную личность, часто действующую вопреки моей воле, другого меня, который только и ждет случая, чтобы захватить меня. Я чувствую укол паники»[161].
Во многих отношениях мир Ренуара напоминает мир Николая Гоголя, в чьих повествованиях незабываемо сочетается ирония, комедия и трагедия и чье живое внимание к неодушевленным деталям выразительно контрастирует с тупостью и пустотой его персонажей. Именно деталь-то и оживает; персонажи функционируют как переносчики детали, немногим более, а их собственная печальная жизнь погружается во мрак. В «Шинели» центральное место занимает шинель, а не ее хозяин. В повести «Нос» именно нос обретает собственную жизнь, подражая тщеславной пустоте своего спесивого владельца Ковалева, который ищет его по городу, обращается к нему и считает себя оскорбленным неудобством, вызванным непослушанием носа. Когда чиновник, к которому приходит Ковалев в поисках носа, предлагает несчастному Ковалеву понюшку табаку, тот возмущается: «Я не понимаю, как вы находите место шуткам, /…/ разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать?»[162] А когда полицейский чиновник находит нос, он (т. е. квартальный надзиратель) описывается в нарочито анонимном духе («красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками»). На вопрос о том, как он нашел нос, квартальный ответил: «И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастию, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос»[163].
Ознакомительная версия.