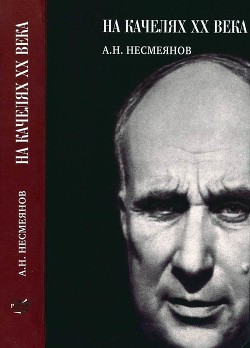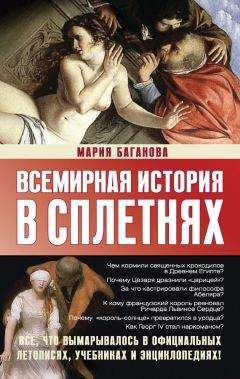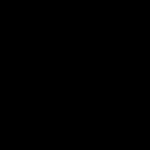Мой рабочий день в гимназии длился обычно 6 часов, изредка 5, я приезжал или приходил домой к четырем часам, обедал, а в шесть уже должен был садиться за уроки. В первом классе я еще был добросовестен, да и мама систематически следила за мной, а дальше я все меньше занимался приготовлением уроков, по крайней мере, устных. Письменные-то нельзя не сделать, а устные спрашивают редко, в классе сорок человек, «пронесет». И занятия с папой, периодические «сессии», о которых была речь, помогали держать уровень. Тактика у меня была такая — не приносить двоек в четвертях. И действительно, за все восемь классов их в четвертях не было ни одной. А пятерки — я за ними не гнался. Иногда — по естествознанию, физике, химии, позднее — по русскому языку (литературе), латыни — они сами меня находили. С арифметикой на первых порах я был не в ладах и единственную за все время единицу получил в первом классе по этому предмету (в четверти была тройка). В общем, времени на мое «личное» естествознание (весной и осенью) и на чтение, игры, прогулки оставались крохи, и я чувствовал себя более или менее каторжным.
Я был настолько глуп, что не осознавал пользы от таких предметов, как география, русский язык (чего еще надо — читать и писать я умел безукоризненно), другие языки, латынь (правда, мне до сих пор жаль потраченное на нее время), химия (школьная!). Большая часть того, что преподавалось, была мне не нужна и чужда. Ну какой мне был интерес в Фридрихе Барбароссе или Хлодвиге и династии Каролингов, в войне обеих Роз?! Я считал, что распорядился бы своим временем куда рациональнее, не говоря уже о том, что интереснее. Но такое отношение было лишь к школьной истории. Уже в то время я с увлечением читал, не помню чью, книгу по истории Египта (Масперо?) [48], меня пленяли Шампольон [49] и разгадка им письмен Розеттского камня, я читал о Сумерах и Аккадах, меня очень интересовала эпоха падения Римской империи и жизнь Византии, как будто отрезанного от Рима органа, пережившего свое тело на много столетий. Я старался понять удивительное мирное сосуществование славян и угро-финнов, с мозаикой их поселений, и т. д. и т. п. Лишь средневековая история была мне скучна.
Необходимость знания немецкого и французского языков была осознана мною гораздо позднее, поэтому попытки родителей завести немку «бонну» или — летом!! — преподавательницу-француженку давали минимальный эффект. С нашей стороны — моей и брата Васи — это была кампания гражданского неповиновения.
Не компенсировало мою «каторжную повинность» и общение с товарищами по классу. У меня в гимназии просто не было друзей. Почему?
Во-первых, я был совершенно удовлетворен друзьями в приюте. Кроме тех, о которых я говорил, у меня еще за год до первого класса появился друг — Борис Касперович, сын инженера Евгения Федоровича, приглашенного заведовать учебными мастерскими приюта. Четыре года Борис был моим близким другом, с которым мы совершали «путешествие»: я — в гимназию, он, начав учебу годом раньше, — в реальное училище. Борис был на год старше меня, но физически развивался еще быстрее. Это и была одна из причин, по которой мы разошлись, хотя и не ссорились.
Во-вторых, большинство мальчиков моего класса, как это часто бывало в дорогих частных гимназиях, принадлежали к богатой буржуазии со свойственными этому классу неприятными чертами, которые чувствовались повседневно. Были и задававшие тон оболтусы, исключенные из других гимназий и нашедшие приют в Страховской. Были, конечно, и мальчики с яркой индивидуальностью и будущим, но они или тонули в общем хоре, или ему подчинялись. Среди них могу отметить моих одноклассников Анатолия Викторова (будущий артист МХАТа Кторов), Виталия Зака (будущий литератор), Николая Прянишникова — сына академика Д.Н. Прянишникова (будущий профессор, трагически погибший в автокатастрофе еще сравнительно молодым), Бориса Михальчука (впоследствии химик, заведующий лабораторией НИУИФа). Как я узнал из книги авиаконструктора А.С. Яковлева «Цель жизни», и он учился в гимназии Страхова, года на четыре позже меня.
По названным причинам я не любил своего класса, не любил гимназии и настолько стремился домой, что и пяти минут лишних не отдал бы гимназии (фото 9). Характерно, что я всего один раз и то лишь в первом классе был в гостях у одного из своих товарищей, и у меня, насколько помню, лишь один раз за восемь лет был мой одноклассник Войтехов, сосед по Алексеевской водокачке, сын ее инженера.
Наши учителя в большинстве были квалифицированными, добросовестными, но педагогически бесталанными, скучными, как бы прокуренными скукой. Были исключения. Странный, огромный, носатый, черный, в учительском синем мундире Николай Иванович Нарский с четвертого класса преподавал древнюю русскую литературу и интересно, страстно, с чудными жестами, хватая себя то за нос, то за эспаньолку и взад и вперед раскачиваясь, рассказывал то о былинах, то о «Повести временных лет», анализируя и особенности стиля, и историческую обстановку.
В 5–6 классе у нас появился новый учитель французского — мсье Бертье, плохо изъяснявшийся по-русски, с трудом прочитывавший в своей книжечке мою фамилию — Веянеямяснов — и имевший, с моей тогдашней точки зрения, комическую наружность: широкое лицо, эспаньолка, пенсне, наружность, которую я мог похоже нарисовать в системе декартовых координат и затем, давая ряд XY координат последовательных точек, определяющих контуры лица Бертье, вывести тем самым его формулу. Физику у нас вел А.И. Анненков, с которым судьба свела меня позднее в университете как с ассистентом, у которого я проходил практикум по качественному анализу. Химию (был в нашей гимназии и этот предмет, что было редкостью в то время) преподавал также ассистент МГУ Е.С. Пржевальский [50] (фото 13), но, в отличие от Анненкова, — педантично и на редкость скучно. Если бы не моя уже непреодолимая влюбленность в химию, Евгений Степанович, конечно, не зародил бы интереса к этой скучнейшей в его изложении науке. С ним я тоже долго, до самой его смерти, встречался на университетском поприще. Я не имел понятия о работе моих учителей в университете. Но независимо от них мой-то путь был определен ясно: университет, физико-математический факультет, естественное отделение, специализация по химии.
Яркой была личность Петра Николаевича Страхова. Он, действительно, был педагог божьей милостью. Однако он не преподавал, а только заменял в нашем классе того или иного заболевшего учителя. Замена была своеобразной: вместо того урока, который должен был быть по расписанию, он нам давал урок латыни. Впрочем, это одновременно был урок и римской истории. Мы переносились в эпоху, скажем, Юлия Цезаря, с языком того времени, обычаями, событиями. Часто он просто читал нам какие-то свои записки, написанные на отдельных листах с полями его, знакомым нам, четким прямым почерком. Читая, он вдруг зажигался, отвлекался и образно живописал эпоху. Слушали мы его, затаив дыхание. Сам он был невысокий, со стриженой седой головой, серой клинышком бородой и усами, сероглазый, немного пузатый, в куртке цвета хаки, с очками, сползающими на кончик носа. Он, единственный из учителей, называл всех нас на «ты» от первого до восьмого класса. Если бы он был и организатором таким, как педагогом!
Что сказать еще о школе? Нам очень везло с экзаменами. Я держал их только при переходе из четвертого в пятый класс. Но это были экзамены с наблюдателями из учебного округа, так как в то время гимназия Страхова еще не получила самостоятельных прав на их проведение, это произошло, когда я был уже в старших классах. Несмотря на то что весной 1913 г. я долго болел, перед экзаменами папа взялся за меня, особенно за мою математику, и я легко преодолел этот барьер. По математике получил пять и, кажется, не помню точно, остальные предметы сдал в основном на пятерки. Выпускной экзамен на аттестат зрелости должен был происходить весной 1917 г., он был повсеместно отменен, и мы получили голубые аттестаты «даром».