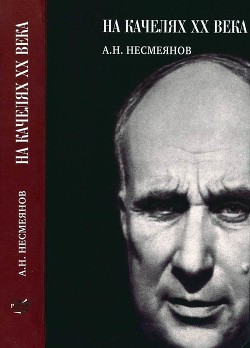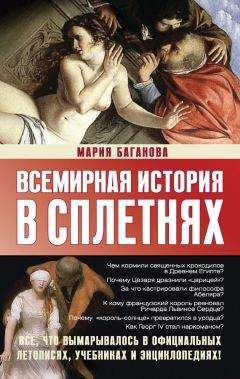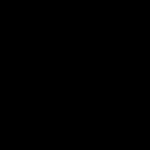Конечно, во всем есть результат постепенности и градации, не вечные, но разные в разные эпохи. Убийство человека было когда-то повседневным явлением. Убийство человека с корыстной целью в моих глазах еще более тяжкое преступление, чем убийство животного, а убийство животного более тяжко, чем, скажем, рыбы. Без уничтожения насекомых в нашу эпоху, мы, очевидно, обойтись не можем, но отсюда никак не следует вывод, что следует разрешить убивать животных, а далее и человека. Вот примерная канва моих дискуссий с родными и с самим собой.
После 1910 г. я на протяжении всей своей жизни совершенно не ел мяса, а после 1913 г. и рыбы, что, между прочим, было нелегко в голодные 1918–1921 гг., когда существенным продуктом питания были вобла и селедка. Если я говорю нелегко, то это касается лишь голодного организма, а не воли. Я не мог и представить себе, чтобы я стал есть что-либо мне по убеждениям не положенное. В 1919 г., совершая путь в канцелярию отдела изобразительных искусств Наркомпроса [52] на Остоженку и обратно на Домниковскую, где я жил тогда в семье Сергея Виноградова, я предавался голодным мечтам о гречневой каше и других таких же изысканных блюдах, но не мог и подумать о мясе или рыбе. Когда я входил в квартиру, меня тошнило от запаха конины, которую варила для своей семьи Анна Андреевна Виноградова. Я, несомненно, пошел бы на смерть, если бы пришлось, лишь бы не съесть мяса. Так возникает фанатизм. Так родится сектантство. Эту опасность я всегда сознавал и старался ее избежать, то есть старался не противопоставлять себя всем людям. Не считать символ, протест, каким, в сущности, является отказ от мяса, за существо дела.
Уже после Октябрьской революции меня посетила мысль, что если безубойное существование человеческого общества возможно, то никоим образом не иначе, как в условиях социализма. В частновладельческом буржуазном обществе с убоем ничего нельзя сделать, и положение может только прогрессировать в сторону чикагских боен. Читая книги по марксизму, я убеждался, что решающим фактором в борьбе за освобождение должны быть не сентиментальные рассуждения и чувства, а экономика. Если приблизить такое время, когда можно будет производить пищу более дешевым способом, чем кормление и убой животных, тогда все получится само собой. Но наука 40-х и 30-х гг. была еще слишком слаба, чтобы ставить конкретно такую задачу.
Революционное время
Лето 1914 г. мы жили в Киржаче. Сохранился снимок: вся семья за столом в гостях у Бибановых — тестя и тещи дяди Володи [53]. Развернутая газета с известием об убийстве в Сараеве. На мирный Киржач пахнуло грозой. Действительно, через несколько дней я увидел объявление, приклеенное к одному из огромных красных деревянных четвероногих пожарных баков, хранивших воду на случай пожара и стоявших на уличных перекрестках Киржача. В нем было извещение о мобилизации. Папа вернулся в Москву. В Киржаче и деревнях происходили душераздирающие сцены проводов в армию. Началась война.
Непосредственно нашей семьи она не коснулась, и первые два года мы жили газетами и с горькой тревогой следили за отступлением и поражениями русской армии, а редкие победы ее не меняли общего неудачного хода войны. Нарастало возмущение плохой подготовкой, плохим снабжением армии. Мастерские приюта включились (не помню уже через какую организацию, так как число их росло — союз городов, земский союз) в помощь фронту. Одно лето и я работал на сверлильном станке, делая дырки в каких-то клеммах, и выполнял норму.
Росло возмущение и петербургскими верхами — царем и правительством, правительственной чехардой, сменой одной бездарности во главе правительства новой, худшей. Просачивались слухи о немыслимой, позорной роли Распутина [54]. Эти сведения проникали и в газеты. Потом произошло убийство Распутина. Февральская революция была встречена как великий весенний праздник, как пробуждение от кошмарного сна. Не было человека, который бы не радовался беспредельно. Но снова министерская чехарда, потом премьер-фигляр Керенский, в котором, по меньшей мере в нашем кругу, все чувствовали что-то совершенно несерьезное, шутовское. Снова призывы к «войне до победного конца», к войне, которую, становилось понятно, нельзя выиграть. Наконец, октябрь 1917 г.
Наша семья никак не была подготовлена к событиям Октября. Настроения в нашем кругу были либерально-интеллигентские, читали «Русские Ведомости», взрослые за пятый список (большевиков) не голосовали, и революция представлялась бунтом против, хотя и плохого, неопытного, слабого во всех отношениях, но все-таки лучшего, чем когда-либо раньше, правительства. По 3-му Сокольничьему просеку неслись грузовики, полные вооруженных рабочих. Любопытный и смелый Ваня Никольский пробрался в город и рассказывал, что у Красных ворот идет перестрелка. Ухали в отдалении пушечные выстрелы. В приюте была учреждена ночная охрана из ребят вроде Ивана Никольского и меня, словом детей служащих, доставлявшая немало удовольствий нашей жажде романтизма, тем более, что в этой охране за компанию приняли участие и девушки…
Через несколько дней власть в Москве тоже стала советской. Но союз городских служащих объявил в знак протеста против революционного захвата власти забастовку своих членов, в число которых входили и служащие приюта. Они присоединились к забастовке. Это была глупость. Это была дважды глупость, поскольку, по существу, забастовки не было: жизнь в приюте шла, воспитатели были на местах, пища варилась и раздавалась, прачечная и баня работали, разве только ученья не было. Результат был ясный. После предложения прекратить забастовку и отказа все были уволены, и прислан новый штат. Для выселяемых один из Бахрушиных предложил свою дачу на Поперечном просеке в Сокольниках. Что касается нашей семьи, мы упаковали свои вещи для переезда в Киржач. В это нелегкое время на территорию приюта пришла возбужденная толпа солдаток, которые вообразили, что попечительство во главе с папой, ведавшее выдачей им пособий, собралось бежать с их деньгами. Среди них фигурировал милиционер с красной повязкой, папу увели, заставив организовать раздачу пособий, и вернулся он поздно вечером, а мы пережили тревожные часы.
Все это происходило уже не в первые дни Октябрьской революции, а зимой. Мне не очень уверенно помнится, что Новый год мы еще встретили в нашей приютской квартире. Не ручаюсь, не обманывает ли меня память. Затем, простившись с милым приютом и нашей квартирой навсегда, мы отправились в Киржач, и я впервые в жизни увидел зимний Киржач с огромными сугробами, совершенно заснеженными улицами. Электрический свет снова сменился на керосиновые лампы. Мне надо было продолжать занятия в университете, я начал их в сентябре 1917 г. (об этом отдельно). И я переехал на дачу Бахрушина, где меня приютило семейство моего друга Вани Никольского, тоже студента (медика), но уже второкурсника.
Первые университетские годы
Получив аттестат зрелости, я подал его вместе с прошением о зачислении на естественное отделение физико-математического факультета МГУ еще весной 1917 г., после Февральской революции. Сомневаться в приеме не приходилось: не отказывали никому. Вступительных экзаменов в университет и какого-либо конкурса не было, так что я уже весной приобрел студенческую фуражку и гордо ходил в ней все лето. В сентябре начались занятия, я с благоговением вошел под старые своды МГУ на Моховой. Мне, как естественнику, предстояло кроме необходимых как химику предметов изучить и общий курс естествознания — анатомию человека, зоологию беспозвоночных и позвоночных, анатомию растений, систематику низших и высших растений и т. д. Помню, что первой лекцией, которую я слушал, была лекция Карузина по анатомии человека. Он читал ее в старом анатомическом театре, сколько помню, над трупом человека, стараясь заинтересовать студентов раскрытием тайн человеческого тела; было жутковато и интересно. Я в первое время охотно ходил на все лекции, однажды посетил даже общеуниверситетскую лекцию по богословию, которую читал профессор в рясе Боголюбский в огромной «богословской» (позднее Коммунистической) аудитории так называемого нового здания университета, то есть здания по южную сторону Никитской. Никакого разумного впечатления из этого словоговорения на литературно-нравственные темы я не вынес. Лекции по математике читал тогда доцент Бюшгенс [55]. Длинный, похожий на интеграл, он плавно выписывал на доске строки формул и так же плавно их стирал, раскачивая одной длинной ногой и стоя на другой. Следить было трудно. Стоило на минуту отвлечься мыслями, и нить терялась. Лекции по зоологии беспозвоночных читал профессор Кожевников [56], закатывая белесые глаза в потолок и произнося букву «р» как «н» (забавно поэтому было слушать, как он называл по имени служителя Гаврилу). По старым моим зоологическим симпатиям лекции были мне интересны.