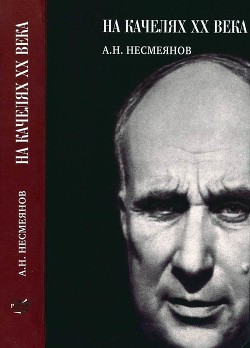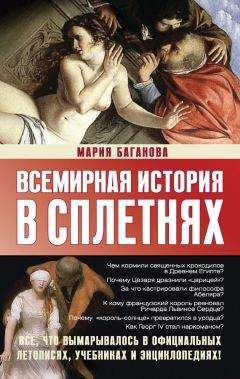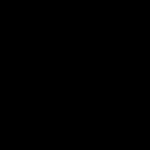Когда мне было лет шесть, папа и мама единственный раз в жизни позволили себе отправиться на лето за границу (впрочем, в другой раз, позднее, они ездили в Финляндию, но в то время это была не совсем «заграница»). Они побывали в Германии, Швейцарии, Северной Италии. Поднимались (тогда фуникулера не было) на Юнгфрау. Папа объяснялся по-немецки. Природа Швейцарии, музеи Мюнхена и Италии оставили сильное впечатление, но, несмотря на это, главным стремлением папы было поскорее вернуться в Россию. Претил меркантильный дух: плата за вид на водопад, плата за вход к красотам природы, в счете пункт: столько-то марок за то, что вы у нас не обедали. Насколько я помню, в последнем случае папа возмутился и скандалил.
Я
В первый год после рождения я был толст. Года в два-три я уже пришел в норму, затем стал худ и смугловат (смуглая кожа — наследство от бабушки-польки). К сорока годам я проявил наклонность к полноте, и чем дальше, тем больше, но лишь в области живота. Волосы мои были темно-русые и жесткие. К двадцати годам они помягчели и по мере «умственного образования» лоб все расширялся, пока не перешел за макушку — это уже после сорока лет (!) — и не обнажилась напоминающая папину яйцеобразная голова. Глаза у меня в детстве были большие, светлые (светло-серо-зеленоватые); «глаза, как у сове», как говорила моя нянька Елена. Маленьким я был довольно хорошеньким, пока в переходном возрасте не стал у меня неуемно расти нос и надбровные дуги. Мама рассказывала, что когда она совершала со мной обычные прогулки по 3-му просеку Сокольников, какой-то, как тогда говорили, господин, ежедневно встречая нас, восхищался мной. Мной ли? Сам я, научившись говорить, высказывался так: я красивый, румёный.
Я долго не мог научиться правильно произносить «р» и порядочным напряжением воли научился этому, полагаю, только в десятилетнем возрасте, если не позднее. Как и моя более старшая подруга детских лет тетя Оля, я произносил не три, а трли. В детстве, да и позднее, я был не слишком развит физически, слабее моих ребят-сверстников, хотя бегал быстро, ходил на лыжах, хорошо ездил на велосипеде, довольно далеко и метко «по-мужски» бросал камни и палки, например, при игре в городки. Все же мои сверстники, приютские ребята, проделывали все это искуснее. К танцам относился с презрением (что за глупое занятие!), а когда понял их смысл, было поздно, успел научиться одной венгерке, которую, впрочем, танцевать так и не пришлось. Но это все относится к позднему отрочеству.
Был я до крайности стеснителен и замкнут. Лет до восьми меня трудно было заставить поменять пальто с переменой сезона, мне это доставляло истинную муку. Психология была примерно такая: к осеннему пальто присмотрелись, а сменишь на шубу — вызовешь всеобщее нелестное внимание. Из-за стеснительности лет до восьми я не мог купить что-либо в лавке — стеснялся обратиться к продавцу. Но годам к двенадцати я уже отлично покупал реактивы в аптеках, например в аптеке Феррейна [31] или в аптеке отца моего одноклассника Варгафтига. Однако войти в комнату, где находилось общество знакомых и незнакомых лиц, долго было для меня мукой. Помню такой случай: я сидел за чаем в хорошо знакомом и милом семействе Никольских в приюте. Мне могло быть уже лет четырнадцать. И вдруг на меня нашел столбняк стеснения. Ни говорить, ни тем более встать, попрощаться и уйти я не мог. И не было для стеснения ни малейшей причины. Я сидел непозволительно долго и начинал замечать удивленные взгляды, что сковывало меня еще больше. В конце концов, огромным усилием воли я заставил себя встать и неуклюже удалился. В такой степени ничего похожего уже не повторялось. Однако и студентом я избегал выступать на собраниях, выступления были мне нелегки и в первые годы по окончании университета. В целом, это Несмеяновская черта. У Рудницких ее совершенно не было.
В папу я был демократичен, и меня с детства возмущали всякие проявления неравенства к людям. В отличие от папы, я был честолюбив, но честолюбие мое было направлено с детства на одно: я хотел быть ученым, профессором. Об Академии наук я в ту пору ничего не знал, и поэтому не мог хотеть быть академиком. Это честолюбие сохранилось и когда я вырос, но оно было, так сказать, чистым, меня нисколько не занимало звание или положение, я хотел сделать в науке что-то крупное. В начале жизни я страшно боялся смерти, особенно тогда, когда лет в 12–13 понял, что загробной жизни нет, что бог такая же сказка, как Баба Яга. Толчок к этому пониманию по иронии судьбы я получил в церкви на пасхальной заутрене — единственной службе, на которую ходил. Было тесно и душно, мне сделалось дурно, и я потерял сознание. Меня вытащили на паперть, и кто-то из старших воспитанников доставил меня домой. Я убедился, что смерть возможна, что мир может продолжать существовать и без того, чтобы я его ощущал, обморок мне ясно показал мое ничтожество. Тем более мне захотелось единственно достижимой (как я тогда думал) формы бессмертия — бессмертия в своих творениях, бессмертия в памяти людей. Я явно упускал из виду, что наука отнюдь не лучший для этого путь. Впрочем, выбирать я не мог. Как я расскажу дальше, в науку я уже был прочно влюблен. Раньше — лет до 10–11 — я верил в благого бога. Откуда это взялось — не знаю, так как никто меня не пропагандировал. Во всяком случае, в минуту опасности (входя в темную комнату) я крестился. А вечером молился, но молитва была моя собственная. Она звучала так: «Господи! Дай мне ум — острый и быстрый, гибкий и глубокий, широкий и высокий, могучий ум». По-видимому, я просил слишком многого, или бог оказался слишком скупым, и мне было отказано почти по всем пунктам, кроме, разве, в известной мере, первых двух. Позднее, критически оценивая себя, я убеждался, что был наделен интеллектом скорее художника (в широком смысле слова), чем ученого. Мое мышление было образно, мне явно не хватало папиной «кибернетической» логической машины. Мне нужна была наглядность, а в глубинах абстракции, чем жива современная наука, я плохо себя чувствовал.
Первые воспоминания
Первые воспоминания — отдельные яркие картинки, выступающие из тумана. Легко обмануться и воссоздать их по знакомым с детства фотографиям. Поэтому они достоверны лишь в тех случаях, когда нет фотографических эквивалентов. Одно из ранних воспоминаний: папа делает мне строгое внушение и даже обидно шлепает за то, что в результате увлечения игрой и рассеянности у меня систематически намокают штаны. Другая картина, видимо в Киржаче: за столом сидит семья во главе с дедом Данилом Антоновичем — толстым, лысым, усатым и страшноватым. Еще такая картинка: Сокольники, место, по-видимому, нынешней остановки трамвая, но трамвая еще не было. Стоит конка, в нее впряжены две лошади, а мама бежит и тащит меня за руку, мы спешим сесть в эту конку. Еще вспоминается сцена: меня кормят супом, я ем неохотно. «Ешь, ешь, суп великолепный», — говорят мне. Я всматриваюсь в суп и единственно, что вижу в этом бульоне — плавающие кружки жира. Я соображаю, что они имеют отношение к великолепию супа, и впредь называю эти кружки «великолепами».
Старшие смотрят в небо и говорят: небо сулит на завтра хорошую погоду. Я смотрю в небо вместе с ними все пристальнее и сначала ничего не вижу, но потом от напряжения появляются серовато-голубые кружки, наподобие «великолеп». Ага, соображаю я, это и есть сули.
Помню висевшую у нас над столом в Сокольниках на блоке огромную керосиновую лампу «молния» с белым абажуром. Году в 1904, а может быть и раньше, началась в приюте и нашей квартире проводка электричества, и я хорошо помню и ролики, на которых укреплялся провод и которые я использовал как игрушки, и мой восторг от первых опытов самостоятельного включения света.
Я уже писал о воспоминаниях, связанных с бураном 1904 г. в Сокольниках. Примерно в это время у меня появилась подружка Клера, моя ровесница, дочь приютского учителя С.С. Бедринского. Игры с ней вспоминаются как волшебно-увлекательные. Когда мне приобрели маленький столик, на котором я учился выводить в тетради палочки, этот столик, накрытый шалью, использовался как дом, хотя там трудно было уместиться вдвоем, и объектами игры были какие-то многочисленные зверьки и птички. Мне было, надо думать, лет шесть, когда Клера умерла от скарлатины, одновременно с ее старшей сестрой. Это — первая смерть, поразившая меня и запавшая в память. До сих пор помню какой-то нечеловеческий вой, доносившийся с улицы на третий этаж. Жалости, однако, я не чувствовал. Поражала необычность события. Смерть младших сестер, значительно более ранняя, почти не оставила воспоминаний или воспоминания, примысленные по фотографиям. В это время у меня появился брат Вася, но я также совершенно не помню его появления. Рождение сестры Тани через четыре года (1908) помню совершенно ясно, так же как и слова папы: «Сестра, подбери губы, братья смотреть идут». Восемь лет — это уже было время интенсивных занятий. Через год надо было держать экзамен в гимназию. В это время у меня начали заводиться приятели среди воспитанников приюта, и мои горизонты раздвинулись на всю территорию приюта.