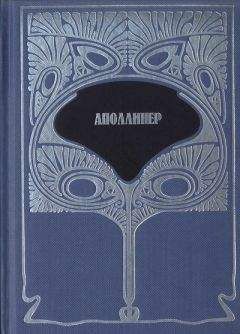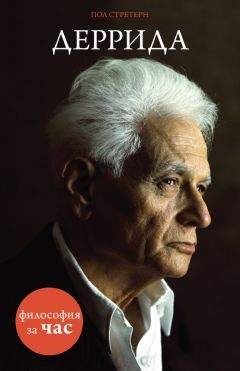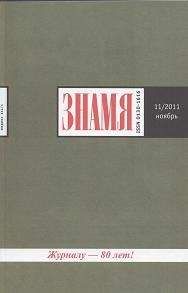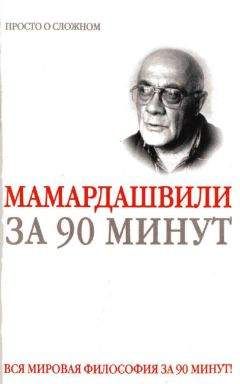Теперь — относительно обычных предметов или даже человеческого тела, возведенных в достоинство знаков. Очевидно, что здесь можно вдохновляться иероглифическим письмом не только для обозначения этих знаков в читаемой форме и их, по мере необходимости, воспроизведения, но и для построения на сцене отчетливых и легко читаемых символов» (Арто, 1968:143).
Деррида убедительно показал, что концепция иероглифа у Арто тесно связана с фундаментальной трансформацией идеи представления (репрезентации). Представление слова заменяется «разворачиванием объема, многомерной среды, опыта, производящего свое собственное пространство» (Деррида, 1979:348). Деррида обозначает эту замену как «закрытие классической репрезентации» или иначе — «создание закрытого пространства первичной репрезентации». «Пер-
54
вичной» в данном случае означает — жестовой, дословесной. Деррида дает и еще одно определение этой новой репрезентации как «само-презентации видимого и даже чувственного в их чистоте» (Деррида, 1979:349).
Но это закрытие репрезентации на объем, пространство, чистые видимость и чувственность придают иероглифу черты телесности, обладающей самодовлеющим характером, они подрывают в иероглифе свойства знака. Знак перестает быть прозрачным транслятором смысла от означающего к означаемому. И этот процесс протекает всюду, где письмо, особенно в его пиктографической форме, приобретает предметность. Эзра Паунд, считавший китайскую иероглифику моделью поэтической образности, утверждал, что образ — «это форма взаимоналожения, иными словами, одна идея положенная на другую» (Паунд, 1970:53; см. об этом Малявин, 1982). Построенный таким способом образ Паунд клал в основу «вортицизма» и противопоставлял «вортицизм» импрессионизму, наивысшим выражением которого он считал кинематограф (Паунд, 1970:54). Нечто совершенно аналогичное, но несколько позже, мы обнаруживаем и у Эйзенштейна, противопоставлявшего естественной (импрессионистской) миметичности домонтажного кино монтаж как своеобразную форму реализации все той же идеи иероглифической пиктографии. Эйзенштейн так писал об элементах иероглифа, уподобляемых им элементам монтажа: «...если каждый в отдельности соответствует предмету, факту, то сопоставление их оказывается соответствующим понятию. Сочетанием двух «изобразимых» достигается начертание графически неизобразимого» (Эйзенштейн, 1964—1971, т. 2:284).
Если вдуматься в суть этих «нагромождений» одного на другого, составляющих основу иероглифики в понимании Паунда, Эйзенштейна, Арто, мы легко
55
обнаружим здесь, во-первых, вариант анаграмматического сочетания элементов, а во-вторых, ясно различимую идею уничтожения прозрачной знаковости элементов, входящих в «иероглиф».
Когда Эйзенштейн пишет о том, что в иероглифике «изображение воды и глаза означает — «плакать» (Эйзенштейн, 1964—1971, т. 2:285), то во имя достижения понятия «плакать» разрушаются гораздо более очевидные, «простые» иконические смыслы изображения воды и глаза. Отмеченное нами нарастание чистой пространственности, телесности в иероглифе идет, таким образом, параллельно разрушению первичного иконизма, того, что мы бы назвали миметическим слоем речи. С точки зрения Эйзенштейна или Паунда, разрушение смысла элементов иероглифа с лихвой компенсируется каким-то иным совокупным смыслом, надстраивающимся над разрушенным мимесисом. Однако такой вывод далеко не очевиден. Взаимоналожение воды и глаза, конечно, может дать понятие «плакать», но может и не дать. Иероглифический смысл всегда гораздо менее очевиден, чем смысл миметический и в огромном количестве случаев не реализуется в восприятии. Прорыв к новому смыслу, таким образом, вполне вероятно может завершиться разрушением смысла и финальным нарастанием лишь чистой «телесности», само-презентацией чувственного.
Исследователи, которые с современных позиций анализировали иероглифическую модель письма применительно к кинематографу (в том числе и эйзенштейновскую теорию), пришли к выводу, что иероглифика, усиливая гетерогенность (разнородность) текста, «ломает знак» (Ульмер, 1985:271). Самое поразительное в этом то, что на первый взгляд пиктография как бы восстанавливает мотивированность (миметичность) знака, его связь с предметами внешнего мира. В действительности, иероглифика за счет взаимонало-
56
жения элементов подрывает миметичность текста. М. К. Ропарс-Вюйемье ставит достаточно точный диагноз протекающим процессам: «Речь постоянно идет о том, чтобы, вернувшись к Кратилу, мотивировать знак, приблизить его к вещи: то есть превратить букву, слово в фигуру реальности. В таком контексте, напротив, поиск кинематографического иероглифа, по видимости, основывается на демотивации изображения по отношению к представляемому им предмету: иными словами, на диссоциации фигурации и значения» (Ропарс-Вюйемье, 1981:71).
Все эти рассуждения по поводу иероглифики, вытекающие из самого существа параграммы, непосредственно относятся и к теории интертекстуальности. Ведь интертекстуальность наслаивает текст на текст, смысл на смысл, по существу «иероглифизируя» письмо. Принципиальный вопрос, который в связи с этим возникает, можно сформулировать следующим образом: открывает ли интертекстуальность новую смысловую перспективу (открывает смысл) или, напротив, создает такое сложное взаимоналожение смыслов, которое в какой-то мере аннигилирует финальный смысл, иероглифизирует знак, «закрывая» классическую репрезентацию.
Ответ на этот вопрос, конечно, не может быть однозначным. Но даже сама его постановка говорит о том, что в данной сфере мы подходим к границам семиотики, к тому пределу, за которым смысл как бы уплотняется до видимости, до саморепрезентации, до тела.
Для дальнейшего продвижения вперед нам следует поставить вопрос о том, что такое цитата и в какой мере цитате свойственны те черты, которые были обнаружены в анаграмме или иероглифе.
Для примера возьмем тексты, по существу всецело составленные из цитат. В эпоху поздней античности существовал целый поэтический жанр, который строился из мозаики цитат классических авторов.
57
Этот жанр назывался центоном (буквально — лоскутная ткань, сшитое из разных кусков одеяло). М. Л. Гаспаров и Е. Г. Рузина, исследовавшие центоны на материале поэзии Вергилия, отмечают, что сам этот жанр свидетельствует не столько о литературной преемственности, сколько о «глубоком историко-культурном разрыве между материалом и его центонной обработкой» (Гаспаров, 1978:210). Центон ломает органику связей с традицией, одновременно представая перед читателем как внутренне неорганичный текст — лоскутная ткань.
Из современных авторов настоящим создателем «центонов» можно считать Вальтера Беньямина, мечтавшего о тексте, который был бы «коллекцией цитат». Для Беньямина цитирование заменяет собой прямую связь с прошлым. Передача прошлого в настоящее заменяется цитированием. Но это цитирование, по Беньямину, выполняет отнюдь не консервативную по отношению к прошлому функцию. Речь идет о желании уничтожить настоящее, иными словами, все ту же классическую репрезентацию, которая разворачивается именно в настоящем времени1. X. Арендт замечает, что в результате сила цитаты заключается «не в том, чтобы сохранить, но в том, чтобы очистить, вырвать из контекста, разрушить. <...>. Принимая форму «фрагментов мысли», цитата имеет двойную функцию — прорывать ход изложения «трансцендирующей силой» и одновременно концентрировать то, что излагается» (Арендт, 1986:292).
Известно, что интерес к цитатам у Беньямина возникает под воздействием Карла Крауса, разработавшего «метод некомментируемых цитат». Показательно, что Краус настойчиво называл цитирование «письменным актерством» (Кролоп, 1977:668—669). Это вторжение театрального в письмо отражает ломку однородности текста, введение в текст некой сцены, некоего чужеродного и отчасти замкнутого на себя фрагмента,
58
которым и является цитата. Не случайно, конечно, тот же Беньямин видит в современной эпохе не только нарастание цитируемости, но и тенденцию к замене «культовой» ценности произведения искусства «выставочной» ценностью, то есть нарастание театрального эксгибирования художественного текста (Беньямин, 1989:157). Цитата в этом контексте может пониматься как микрофрагмент текста, приобретающий элементы той же выставочной ценности. В кинематографе это метафорическое превращение цитаты в подобие живописного полотна или театральной сцены в каком-то смысле подтверждается и особыми свойствами кино2. Реймон Беллур указывал на то, что кинематографический текст не может быть процитирован аналитиком, поскольку аналитик работает с письменным текстом. Нецитируемость фильма в письменном тексте даже приводит Беллура к мысли, что сама «текстуальность» фильма является метафорой. Исследователь указывает, что единственная возможность цитировать фильм в письме — это воспроизводить фотограммы из фильма: «...письменный текст не может воссоздать того, что доступно лишь проекционному аппарату: иллюзию движения, гарантирующую ощущение реальности. Вот почему воспроизведение даже многочисленных фотограмм всегда лишь выявляет нечто вроде непреодолимой беспомощности в овладении текстуальностью фильма. Между тем эти фотограммы исключительно важны. Они действительно являются приспособленным к нуждам чтения эквивалентом стоп-кадров, получаемых на монтажном столе и имеющих несколько противоречивую функцию открывать текстуальность фильма в тот самый момент, когда они прерывают его развертывание» (Беллур, 1984:228).