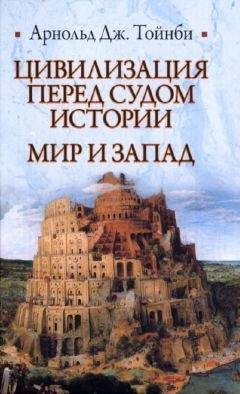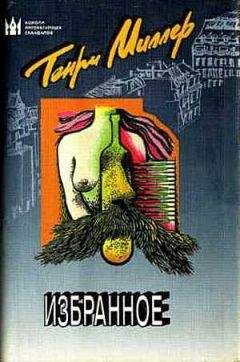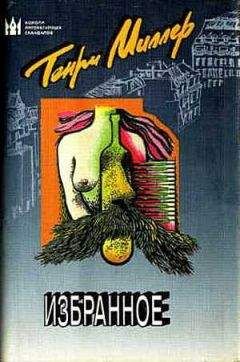что, в первую очередь, о нормативном значении можно говорить
только в контексте этой практики, обычая или институции: «Следовать правилу, делать сообщение, давать задание, играть партию в шахматы – все это практики (применения, институты). Понимать предложение – значит понимать язык. Понимать язык – значит владеть некой техникой» [Там же: 162].
Витгенштейн также тщательно отделяет историко-каузальное описание овладения техникой от нормативного описания самой техники. Таким образом, в ответ на скептический вопрос: «Почему нужно следовать указателю именно таким образом?» – вполне оправданным будет дать историко-каузальное объяснение: «Так меня научили родители», а также нормативное объяснение: «Это правильный способ следовать знакам здесь (в нашем сообществе») [44].
Более того, Витгенштейн в § 198 «Философских исследований» признает, что любая интерпретация выражения «повисает в воздухе вместе с интерпретируемым» [Там же: 162] и не может служить ему подтверждением («опорой»), которого требует скептик. Но вместо того, чтобы взывать к форме семантического платонизма, которую он уже резко раскритиковал, Витгенштейн в § 201 «Философских исследований» диагностирует проблему как возникшую из негласной посылки, что понимать – значит интерпретировать:
Наш парадокс был таким: ни один образ действий не мог бы определяться каким-то правилом, поскольку любой образ действий можно привести в соответствие с этим правилом. Ответом служило: если все можно привести в соответствие с данным правилом, то все может быть приведено и в противоречие с этим правилом. Поэтому тут не было бы ни соответствия, ни противоречия. Мы здесь сталкиваемся с определенным непониманием, и это видно уже из того, что по ходу рассуждения выдвигались одна за другой разные интерпретации, словно любая из них удовлетворяла нас лишь на то время, пока в голову не приходила другая, сменявшая прежнюю. А это свидетельствует о том, что существует такое понимание правила, которое является не интерпретацией, а обнаруживается в том, что мы называем «следованием правилу» и «действием вопреки» правилу в реальных случаях его применения. Вот почему мы склонны говорить: каждое действие по правилу интерпретация. Но «интерпретацией» следовало бы называть лишь замену одного выражения правила другим [Витгенштейн 1994, 1: 163].
Диагноз Витгенштейна признает лишь один вид законного применения «интерпретации»: «замену одного выражения правила другим», где альтернативные выражения правила функционируют на одном и том же уровне – так сказать, том уровне, где понимание правила подразумевается изначально. Витгенштейн, напротив, порицает идею интерпретации, которая в первую очередь как бы оправдывает или обосновывает понимание правила (в другом месте он называет ее «тенью», сопровождающей конкретные правильные приложения правила) [45]. На этом уровне, уровне скальной породы, интерпретистское предположение неуместно [46].
13. Оценка дилемм Крипке и Деррида выявляет в них молчаливое допущение интерпретистской посылки, состоящей в том, что понимание выражения всегда требует акта интерпретации выражения. Принятие такого допущения приводит к возникновению двух рогов дилеммы – это семантический скептицизм и семантический платонизм. Семантический скептицизм влечет за собой нелогичный, парадоксальный вывод, что значение не детерминировано: не существует факта, который подтверждал бы, что выражение имеет детерминированное значение. Семантический платонизм стопорит интерпретационную регрессию, но сам оказывается загнан в тупик имплицитным картезианством: либо семантический платонизм существует в каком-то потустороннем, сверхъестественном мире (платоновском небе форм), и в этом случае кажется невозможным объяснить, каким образом мы, люди, можем понимать значения (ответ Крипке на семантический платонизм), либо, ex hypothesi [47], человеческое сознание содержит в себе такие «идеальные единства», но потом сталкивается с «необходимой возможностью» того, что любое реальное высказывание или применение семантической единицы подпадет под обстоятельства, ведущие к неудаче (ответ Деррида на гуссерлианский семантический платонизм).
Витгенштейновское решение вопроса о семантическом скептицизме в том виде, в каком оно здесь изложено, состоит в том, чтобы отвергнуть предпосылку интепретации, то есть признать, что существуют случаи понимания значения выражения, которые не являются актами интерпретации или инференции как подтверждения. В этом направлении мысли Витгенштейн имел неожиданного литературного предшественника – Л. Н. Толстого, который на пике своей литературной славы впал в мучительный духовный кризис, вызванный радикальным скептицизмом.
Глава 2
Кризис Толстого: «Анна Каренина»
«Я заметил, что он был расстроен. Сообщает ли это о поведении или же о душевном состоянии?» <…> О том и о другом. Но не в их рядоположенности, а об одном, данном через другое.
Витгенштейн [48]
1. В предыдущей главе мы увидели, что картезианство и интерпретизм лежат в основе реконструированных семантико-скептических дилемм, рогами которых оказываются семантический платонизм («правила как рельсы») с одной стороны и семантический скептический парадокс – с другой. В этой главе будут рассмотрены аспекты проблемы семантического скептицизма в том виде, в каком они затрагиваются в некоторых текстах Л. Н. Толстого, написанных в поздний период его творчества, то есть приблизительно во время его «кризиса», которому предшествовали годы работы над «Анной Карениной» и который нашел отражение в «Исповеди»; по мнению исследователей, этот кризис был, по крайней мере отчасти, вызван чтением Шопенгауэра [49].
Мысли Толстого о значении и действии и их месте в эстетическом опыте развивались на протяжении всей его долгой писательской жизни и чаще выражались в литературных, чем в публицистических произведениях. Однако во время и после его «духовного кризиса» эти мысли стали отчетливее и выражались более непосредственно. По этой причине, а также потому, что одним из результатов этого кризиса стала работа «Что такое искусство?», которая интересует нас в первую очередь, мы рассмотрим произведения «позднего» периода творчества Толстого, начиная с «Анны Карениной». Хотя некоторые исследователи утверждают, что между «Анной Карениной» и более поздними, откровенно религиозными произведениями Толстого пролегает пропасть, я покажу, как некоторые идейные и лексические особенности его поздних произведений очевидным образом восходят к «Анне Карениной», а в последующих главах продемонстрирую, как они более полно раскрываются в написанных позже текстах «Что такое искусство?» и «Крейцерова соната» [50].
В целом мой подход к творчеству Толстого этого периода продиктован как более широким замыслом моей книги – исследовать совокупность проблем, общих для Толстого и Витгенштейна, в контексте критики дерридианского семантического скептицизма, – так и одним высказыванием самого Толстого. В письме от 23–26 апреля 1876 года своему другу Н. Н. Страхову Толстой выдвинул свое понимание единства и связности «Анны Карениной», которая часто воспринималась ее первыми критиками как состоящая из двух не связанных друг с другом сюжетных линий (с одной стороны, Анна и Вронский, с другой – Кити и Левин) [51]. В письме Толстой говорит о внутренних «сцеплениях», соединяющих эпизоды и главы романа:
Во всем, почти во всем, что я писал,