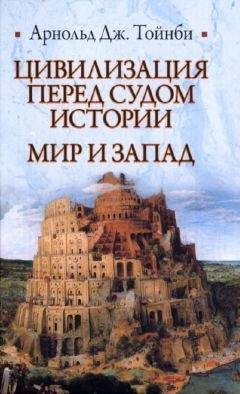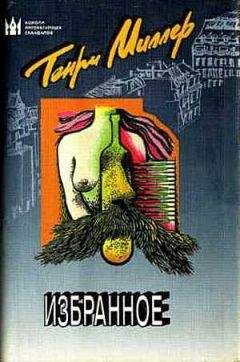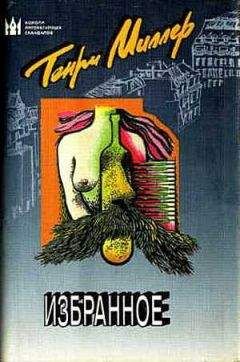мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно – словами описывая образы, действия, положения (63: 269) [52].
Некоторые критики последовательно рассматривали эти «сцепления» на языковом, символическом, тематическом, биографическом и серийно-композиционном уровнях [53]. Я здесь предпринимаю нечто подобное: исследую эти сцепления на всех уровнях от лексического до биографического, но как сквозные, проходящие через разные произведения от «Анны Карениной» до «Исповеди», «Крейцеровой сонаты» и «Что такое искусство?» и до поздних сказок. Во всем своем творчестве Толстой обдумывал и развивал одни и те же проблемы, имевшие для него экзистенциальную важность, и можно заметить, что в разных произведениях позднего периода повторяются сходные темы, образы и Denkfiguren [54]. Нить рассуждения из «Что такое искусство?» воплотится в персонаже или сюжетной линии «Крейцеровой сонаты»; вывод, сделанный Левиным, повторится в «Исповеди» и т. д. Прослеживание и формулирование этих отношений откроют у Толстого более последовательное и постоянное рассмотрение проблемы семантического скептицизма, чем это представлялось до сих пор его читателям.
2. За четыре года до начала работы над «Анной Карениной», 2 сентября 1869 года, во время поездки в Арзамас с Толстым случился его злосчастный «духовный кризис», возможно спровоцированный чтением Шопенгауэра летом того же года [55]. Его охватили страх, ужас и меланхолия при мысли о том, что жизнь, по сути, не имеет смысла и все, что его ждет впереди, – это столь же бессмысленная смерть. Вероятно, он испытывал подобные сомнения и позже и, безусловно, описал начальные проявления этого своего «заболевания» в неоконченном рассказе «Записки сумасшедшего», начатом в 1884 и посмертно опубликованном в 1912 году, – далее в данной главе мы рассмотрим конкретное «сцепление» с этим эпизодом. Пока же отметим только, что некоторые аспекты этого кризиса нашли тематическое отражение в «Анне Карениной». Это вывод, что ни современная наука, ни церковная доктрина в существующей форме не могут стать «руководством» в жизни; скептицизм по поводу «смысла жизни» и сопутствующие ему мысли о самоубийстве; пагубная лживость «светского общества»; связь между сексом и деторождением в браке и т. д.
Один из способов взглянуть на роман – одно из «внутренних сцеплений», о которых говорил Толстой, – рассматривать его как сравнительное изображение отношения индивидов к общественным нравам. Действительно, Декартово разделение между внутренней интенциональностью и внешним поведением преодолевается в романе посредством подспудно сравниваемых изображений внутренней душевной жизни персонажей – или ее отсутствия – и их внешнего социального поведения, понимаемого как привычки, коды, нормы, роли, правила и, как мы увидим позже, метафорически – как рельсы. Например, рассказчик с иронией описывает поведение Щербацких за границей, перетасовывая «родное» и «чужое» пропорционально внутренним установкам и внешнему поведению.
Взгляды князя и княгини на заграничную жизнь были совершенно противоположные. Княгиня находила все прекрасным и, несмотря на свое твердое положение в русском обществе, старалась за границей походить на европейскую даму, чем она не была, – потому что она была русская барыня, – и потому притворялась, что ей было отчасти неловко. Князь же, напротив, находил за границей все скверным, тяготился европейской жизнью, держался своих русских привычек и нарочно старался выказывать себя за границей менее европейцем, чем он был в действительности (18:239) [56].
Реакция обоих персонажей на европейские общественные нравы представляет собой разные формы притворства: отрицание своего происхождения в первом случае и его выпячивание – во втором. И это возможное притворство, конечно, обусловлено предполагаемым картезианским разделением, тем, что умственные состояния и мотивы человека могут быть полностью отделены от его наблюдаемого поведения. Поскольку установки Щербацких предполагают такие социальные коды, которые прямо пропорционально отражают внутренние ментальные состояния и мотивы людей, эти установки также усиливают картезианство, а вовсе не способствуют его критическому рассмотрению, которому, как я утверждаю, подвергает его Толстой. Ведь, в конце концов, Щербацкие – второстепенные, эпизодические персонажи; изображение автором внутренней и внешней жизни главных героев, как мы увидим, предлагает несколько разных описаний, которые по меньшей мере диагностируют, если не опровергают картезианское разделение.
3. Мы можем начать исследование этой картезианской территории, сравнивая способы, которыми Толстой изображает главных героев. Рассказчик знакомит читателя с Облонским через его отношение к «умеренно либеральной газете», которую читает герой:
Степан Аркадьич получал и читал либеральную газету, не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство. И, несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, собственно, не интересовали его, он твердо держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство и его газета, и изменял их, только когда большинство изменяло их, или, лучше сказать, не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись.
Степан Аркадьич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу. Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не оттого, чтоб он находил либеральное направление более разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни. Либеральная партия говорила, что в России все скверно, и действительно, у Степана Аркадьича долгов было много, а денег решительно недоставало <…> Итак, либеральное направление сделалось привычкой Степана Аркадьича, и он любил свою газету, как сигару после обеда, за легкий туман, который она производила в его голове. Он прочел руководящую статью, в которой объяснялось, что в наше время совершенно напрасно поднимается вопль о том, будто бы радикализм угрожает поглотить все консервативные элементы и будто бы правительство обязано принять меры для подавления революционной гидры, что, напротив, «по нашему мнению, опасность лежит не в мнимой революционной гидре, а в упорстве традиционности, тормозящей прогресс», и т. д. (18: 9).
Текучесть характера Облонского обусловлена сиюминутными мнениями, господствующими в обществе, и отражает их; восхитительная ирония содержится в том, что он «привычно» поддерживает либеральное осуждение привычного мышления. Отсутствие у него внутренней жизни противопоставлено более обдуманному отношению к социальным обычаям и приличиям Вронского, которое, однако, также функционирует внутри структуры «внешнее поведение – внутреннее “я”»: