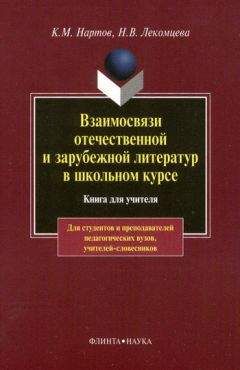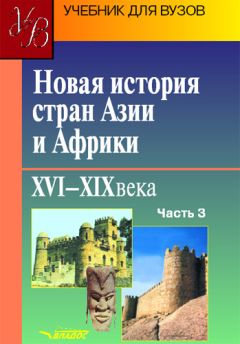В 50 – 60-х годах поэтика мифологизирования проникает в литературы «третьего мира» – латиноамериканские и некоторые афро-азиатские. Нет сомнения в известном влиянии западноевропейского модернизма на эти литературы, но, как известно, всякое влияние должно иметь местные внутренние основания, если это не совсем мимолетная мода. Мифологизм в западноевропейском романе XX в. в отличие от средневекового рыцарского романа и даже эпических жанров эпохи Возрождения (ирои-комическая поэма, фантастический роман Рабле и т. п.) не опирается на фольклорные традиции, в то время как в латиноамериканских и афро-азиатских романах архаические фольклорные традиции и фольклорно-мифологическое сознание, хотя бы и в пережиточной форме, может существовать рядом с модернистским интеллектуализмом чисто европейского типа. Такая многослойность является результатом «ускоренного» развития культуры этих народов в XX в., особенно в послевоенный период. Эта своеобразная культурно-историческая ситуация делает возможным сосуществование и взаимопроникновение, доходящее порой до органического синтеза, элементов историзма и мифологизма, социального реализма и подлинной фольклорности, интерпретация которой колеблется между в сущности романтическим воспеванием национальной самобытности и модернистскими поисками повторяющихся архетипов. Для обозначения этого своеобразного явления в западной критике широко применяется термин «магический реализм» (спорадически этот термин неправомерно прилагался и к западноевропейским модернистам, например к Кафке).
Особое значение имеет латиноамериканский опыт, активно изучаемый советской критикой (В. Н. Кутейщиковой и др.[203]). Для романов кубинского писателя Алехо Карпентьера, гватемальского – Мигеля Анхеля Астуриаса и перуанского – Хосе Мария Аргедаса характерна определенная двуплановость социально-критических и фольклорно-мифологических мотивов, как бы внутренне противостоящих этой обличаемой действительности, во всяком случае в гораздо большей мере ей противостоящей, чем ее метафоризующей. При этом фольклорно-мифологическая стихия так или иначе органически связана с народом, а не с его угнетателями.
Так, в повести А. Карпентьера «Царство земное» (1948), действие которой отнесено к эпохе революционных событий на Гаити в конце XVIII в., один из революционных вождей негр-мандинго Макандаль – лицо одновременно историческое и мифологическое: он умеет превращаться в зверей, птиц и насекомых и улетает от своих палачей, хотя в конечном счете все же погибает на костре (чего не замечает народ, верящий в его неуязвимость). Аналогичную фигуру представляет индеец Чипо из романа М. Астуриаса «Зеленый папа» (1954): он одновременно и слуга капиталистического дельца Мейке-ра Томпсона, и вождь народного восстания, и могучий колдун, принимающий участие в устройстве символического ритуального брака девушки Майари с духом реки Мотагуа. Этот ритуальный брак есть фольклорно-романтическое облачение самоубийства девушки, мыслящей в терминах мифов индейцев майа-кечуа и не желающей соединить свою судьбу со своим официальным женихом – сухим дельцом, равнодушным к страданиям ее народа, одним из организаторов Банановой кампании. Правда, в более раннем романе Астуриаса «Сеньор президент» (1946) кровавая фантасмагория тирании «сеньора президента» сама осмысляется как гигантское ритуальное жертвоприношение.
В романе «Глубокие реки» X. М. Аргедаса (1958) юный герой Эрнесто, воспитанный индейцами кечуа, – сын бродячего адвоката, отдан в монастырскую коллегию маленького городка, где он становится свидетелем многих сцен социальной несправедливости, воспринимая окружающее сквозь призму индейских мифов и ритуалов. Так же как и Майари из «Зеленого папы», ему свойственно поэтическое, пантеистическое мироощущение, на которое он и опирается в борьбе со злом. Река, воды которой приносят не только смерть, но и воскресение, волчок сумбаилью, напоминающий глаза девушки и имеющий колдовскую силу, деревня Седрон, построенная инками древняя стена живут своей особой жизнью, не подвластной государству, помещикам, полиции.
Аналогичный двуплановый характер имеет и мифологизм в «Маисовых людях» Астуриаса, «Педро Параме» Хуана Рульфо, «Сыне человеческом» Р. Бостаса и т. д. Интеллектуальное осмысление «двойного» сознания латиноамериканского художника дано в романе А. Карпентьера «Потерянные следы» (1954). Во всех подобных произведениях мифологизм в большей или меньшей мере непосредственно связан с конкретными, местными национальными фольклорными традициями и в большой мере овеян романтическим ореолом, как бы ни была остра социальная критика и сатира в реалистическом плане в этих же самых произведениях. Разумеется, здесь мало общего с доколумбовой мифологической экзотикой Лоренса, но и с другими западноевропейскими формами поэтики мифологизирования сходство не столь велико.
Особое положение занимает в этом смысле колумбийский писатель Гильермо Гарсиа Маркес, роман которого «Сто лет одиночества» (1966) как бы синтезирует различные варианты мифологизма.
Уже в небольшой повести «Палая листва» (1955) Г. Г. Маркес придал повествованию посредством эпиграфа мифологическую параллель с историей Антигоны, похоронившей вопреки запрету своего брата Полиника. Не только такого рода прием, но и самое обращение к греческой мифологии показывает на связь Г. Г. Маркеса с западноевропейским модернизмом. Однако сохранение живой фольклорной традиции придает гораздо более народные и более зримые, чувственно-конкретные формы фантастическим образам, порой напоминающим о карнавально-гиперболической поэтике Рабле. Это «раблезианство» Маркеса несопоставимо с крайне рассудочным и манерным использованием некоторых приемов Рабле в последнем романе Джойса.
В грандиозной романической эпопее «Сто лет одиночества», которую по справедливости можно назвать «романом-мифом», в том же смысле как «Поминки по Финнегану» и «Иосифа и его братьев», Маркес широчайшим образом опирается на латиноамериканский фольклор, но обращается с ним весьма свободно, дополняя его и античными и библейскими мотивами, и эпизодами из исторических преданий, и действительными фактами из истории родной Колумбии или других латиноамериканских стран, позволяя себе всевозможные гротескно-юмористические деформации источников и богатейшую авторскую выдумку, имеющую порой характер вольной мифологизации быта и национальной истории. Гораздо отчетливее, чем его предшественники, Маркес пользуется, мифологизирующей поэтикой повторений и замещений, а также виртуозно оперирует различными темпоральными планами. Г. Г. Маркес создает весьма четкую «модель мира» (в виде селения Макондо), которая является одновременно и «колумбийской», и «латиноамериканской» (главным образом), и отчасти «общечеловеческой». История Макондо – это одновременно история семьи Буэндиа, история маленького колумбийского городка, история Колумбии, история Латинской Америки и, как сказано, в какой-то мере и всемирная история. Как историю одной семьи «Сто лет одиночества» можно сравнить с «Будденброками», как бы синтезированными с историей «Иосифа и его братьев», представляющей генерализованный сюжет о библейских патриархах, известным образом соотнесенный с современностью. В отличие от Т. Манна и Дж. Джойса Г. Г. Маркес предлагает преимущественно национальную модель. Эта модель, с одной стороны, подчеркивает некие национальные или общечеловеческие инварианты быта, психологии, политической ситуации, основных повторяющихся «ролей», а с другой – историческую динамику латиноамериканского развития от открытия Америки Колумбом до наших дней и эволюцию человеческих характеров.
Своеобразной сбалансированностью исторического и мифологического плана, интерпретацией мифического, в том числе и как типического, Маркес заставляет вспомнить о Т. Манне, хотя трудно обнаружить у него следы прямого влияния библейской эпопеи об Иосифе и его братьях. Патриархальные времена «начала» Макондо предстают в свете шутливо интерпретированных как исторических преданий об открытии Америки «заблудившимся» Колумбом, так и мифов о «культурных героях», представленных здесь цыганами, или мифов об инцесте родоначальников. Обобщенно, но весьма правдиво передана эпоха гражданских войн, связанная прежде всего с образом Аурелиано Буэндиа, и период Банановой кампании (вторжение американского капитала), занимающий столь большое место и у других латиноамериканских романистов. В описании гражданских войн «историческое» и «вечное» уравновешивается за счет представления о бессмысленности и безрезультатности войны, в которой жестокий фанатизм, карьеризм, политическая демагогия проявляются обеими сторонами, и даже полковник Аурелиано Буэндиа, в числе немногих пытавшийся сохранить принципиальность и человечность, постепенно поддается общей атмосфере, а после войны становится живым мертвецом, лишенным всех человеческих привязанностей. По обратной причине теряет связи с жизнью Хосе Аркадио II Буэндиа, чудом не расстрелянный вместе с другими стачечниками жертвами «банановой» эксплуатации – и живущий памятью об этом расстреле, который отрицается официально и в который никто не верит.