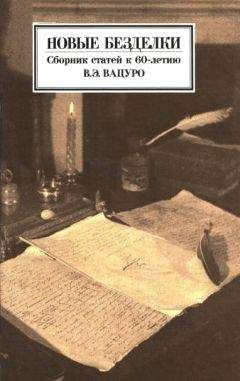В первых своих «шиллерианских» произведениях Нарежный обошел вниманием ту сторону немецкого романа, которая была связана с таинственно-ужасным (unheimlich). Правда, в «Дне злодейства и мщения» появляется замок с томящимися в подземельях узниками, но в нем еще нет ни страшного, ни таинственного. Замок с его темницами, легендами, призраками входил в атрибутику «тривиального» романа, являясь в то же время, пожалуй, центральным мотивом «готической» прозы[151]. Этой области изящной словесности Нарежный отдал дань своей трагедией «Мертвый Замок», завершенной к марту 1801 г.[152] Трагедия эта до сегодняшнего дня остается неопубликованной; текст ее практически не введен в научный обиход, а сведения о ней в исследовательской литературе скудны и лаконичны. Тем не менее указывалось на зависимость сюжета трагедии от шиллеровских «Разбойников», а образа центрального персонажа, маркиза Сатанелли, от немецкого «черного» романа[153]. Не был назван, однако, ближайший источник, которым на этот раз Нарежному послужило одно из самых знаменитых «готических» произведений — «Удольфские тайны» Анны Радклиф.
Увлечение «готическим» романом, принявшее в России на какой-то период характер настоящей эпидемии, началось несколькими годами позднее, но охватило в значительной мере как раз среду, окружавшую Нарежного: едва ли не половина русских переводов «готических» романов издана в Москве и переведена вероятно, не без участия университетских студентов. О Нарежном в связи с этой широкой переводческой деятельностью нет сведений, но по его «Мертвому Замку» можно судить о раннем знакомстве и самостоятельном интересе к «готике»[154].
Для своей пьесы Нарежный выбрал потенциально наиболее привлекательный в глазах широкого читателя (в то же время и наиболее характерный для готической прозы) эпизод романа Радклиф — приключения в Удольфском замке. Место действия пьесы — «замок древнего Юдольфа» на Аппенинских горах. К Радклиф восходят имена главных действующих лиц (Монтони, Эмилия) и общая исходная ситуация: Монтони (его второе имя у Нарежного — маркиз Сатинелли) приезжает с тайными замыслами в свой старый замок в окружении наемников-рейтар и сопровождаемый женой и ее племянницей-сиротой Эмилией. Далее, впрочем, по этой канве Нарежный разрабатывает совершенно самостоятельную интригу, заимствуя у Радклиф лишь некоторые второстепенные подробности (например, требование Монтони к жене оставить ему духовную на все ее поместья) и сюжетные мотивы. Общие контуры сюжета таковы. Эмилия — дочь графа Кордано, замок которого был уничтожен Монтони, а сам граф и его жена похищены. Графиня умерла в стенах Мертвого Замка, Кордано же до сих пор заточен в одном из подземелий, откуда под страхом проклятия завещает детям мщение. Кроме Эмилии у графа остался сын, который находится в замке под именем рыцаря Корабелло. Тайна объясняется. Тщетно Монтони призывает «бездны изобретательных духов», грозится «оспорить скипетр Светоносцев» и клянется «огнем Везувия», пылающим в его сердце[155], упорствуя в исполнении своих преступных замыслов. Победе над злодеем помогает нападение на Мертвый Замок шайки знаменитого разбойника с Аппенинских гор. В финале пьесы мщение исполнено и граф Кордано освобожден[156], причем заключительная сцена, написанная как бы в развитие аналогичной ей из «Дня злодейства и мщения», способна потрясти воображение читателя своей натуралистичной жестокостью: победившие благородные герои кладут злодея Монтони живым в гроб на разлагающийся труп его наперсника, объясняя, сколь мучительна будет его смерть.
«Мертвый Замок» следует признать одним из первых произведений оригинальной русской «готики». Помимо отдельных «готических» мотивов Нарежный почерпнул у Радклиф важнейшее — саму общую таинственную атмосферу «готического» романа. Ее он пытается передать в первую очередь, многократно указывая на таинствен ость и страшное прошлое Юдольфского замка — «замка ужаснейшего самого ада»: «Замок древнего Юдольфа! Кто проникнет страшные твои заклепы? Кто обнаружит ужас, основавший в тебе престол свой? Кто откроет свет надежды в сердце заключенного в тебе узника! Страх, ужас — вечные твои хозяева, и тайны твои сокровеннее судеб Предвечного; и кто из смертных откроет их, замок страшного Юдольфа?»; «Уже ты обветшало, здание веков прошедших. Целые три века было ты загадкою Европы и ужасом Италии. — Неужели при Сатинелли обнаружатся твои тайны и стены твои рушатся со мною? Кто из смертных имеет столько смелости, чтоб мог без ужаса коснуться оград твоих; и кто из демонов столько отважен, чтобы мог пройти глухие мраки полные трупов, пройти стены, обрызганные кровию?»[157] Нарежный даже загадочно семантизирует имя замка, превращая Удольфо в «замок древнего Юдольфа», он вводит и пророчество («Мертвому Замку недолго жить на земле. Его постигнет участь Содома»), также нагнетающее таинственную атмосферу. Тому же эффекту служат эпизоды с голосом, который неожиданно вторит из толщи стены мыслям злодея, восходящие к «Удольфским тайнам» и, как и у Радклиф, в конце концов получающие вполне рациональное объяснение.
В целом Нарежный вполне успешно осваивает «технику тайны». С той только разницей, что в «готическом» романе тайна являлась основным сюжетообразующим стержнем, организовывала все романное повествование и объяснялась на последних страницах. У Нарежного же она теряет свою функциональность. Таинственное прошлое Юдольфского замка, на которое последовательно указывает автор, не играет роли в развитии сюжета и даже не получает в пьесе никакого разъяснения. Внутренние отношения и предыстория героев поначалу загадочно интригуют читателя, но раскрыты автором рано, уже в середине второго действия. Нагнетавшиеся ужас и таинственность с этого момента почти исчезают, и трагедия, следуя общей драматической схеме, неуклонно движется к предугадываемой читателем развязке.
В «Мертвом Замке» Нарежный остается верен штюрмерской стилистике, которая здесь еще отчетливее, чем в предшествующих произведениях. Связь трагедии с Шиллером видна и в выборе драматической формы, и в центральной фигуре злодея — Монтони-Сатинелли, вариации шиллеровского Франца Моора. Отдельные фрагменты выглядят попытками имитации общего строя и «содержательной стороны» рефлексивных монологов шиллеровских героев[158]. И все же шиллеризм Нарежного и тут представляет собой не более как модную оболочку, в которую на этот раз облечены также входящие в читательскую моду готические мотивы. Причем и с тем, и с другим Нарежный поступает одинаково. Им движет стремление к внешним эффектам, и берет он «верхний пласт». Поэтому «готическая» тайна легко теряет под его пером свои сюжетные функции, а из шиллеровской стилистики уходит едва ли не главное — ее психологическая подоплека.
По тому же пути, что Нарежный, шел и Гнедич в своих ранних произведениях из сборника 1802 г. «Плоды уединения» (отрывок «Несчастная любовь», трагедия «Честолюбие и позднее раскаяние» и повесть «Мориц, или Жертва мщения») и романе «Дон-Коррадо де Геррера, или Дух мщения и варварства гишпанцев» (М., 1803)[159]. Не случайны поэтому частные переклички между «Доном-Коррадо» и «Днем злодейства и мщения» Нарежного. Кроме заключительной массовой сцены разоблачения злодея в его замке, ужас которой усиливается описанием грозы (впрочем, в обоих случаях возможно прямое влияние «Разбойников»), сюда относится, например, один общий персонаж — жид Вооз, управитель Дона-Коррадо, помощник во всех его преступлениях, который, когда мера злодействам Коррадо исполняется даже в его глазах, отворачивается от него и способствует его падению. В «Дне злодейства и мщения» жид Вооз — управитель и поверенный Банита Зельского и выступает в аналогичной сюжетной роли. Совпадение указывает если не на общий, пока не проясненный источник, то во всяком случае на внимательное чтение Гнедичем «драматического отрывка» Нарежного. Причем Гнедич значительно усиливает мрачные краски в описании Вооза.
В целом же под «шиллеризмом» у Гнедича скрыт тот же сложный повествовательный субстрат — смесь шиллеровской драматургии, немецкого массового романа и «готики», обильно приправленных кровавыми сценами. Последние уже в скором времени однозначно связались в сознании читателя и критики с именем Шиллера. Так, анонимный рецензент постановки «Димитрия Самозванца» Нарежного указывал на «жестокое подражание» автора Шиллеру, «которое превосходит всякое ожидание зрителя: яд, множество гробов и все выносятся на сцену; беспрерывные смертоубийства, адские заклинания, все пороки, все варварства, весь тиранизм злой души человеческой — все это, кажется, должно заставить каждое доброе сердце отвращать взор свой от сцены, наполненной преступлениями извергов. — Души добрые трепещут и от одного слуху о жестокостях!»[160] Вообще же, эти натуралистически-жестокие и кровавые сцены, отмеченные нами у Нарежного и Гнедича, написаны вполне в духе будущей «неистовой словесности» и как бы ее предугадывают. Они вновь появятся в русской литературе по мере переводов и освоения французского «кошмарного жанра», спустя три десятилетия. Однако общего развития повествовательная линия Нарежного-Гнедича в русской прозе начала XIX века не получила, может быть, потому что в ближайшие годы была полностью поглощена массовым переводным романом.