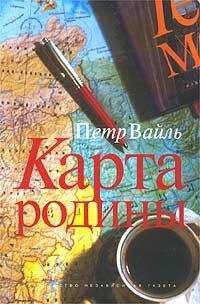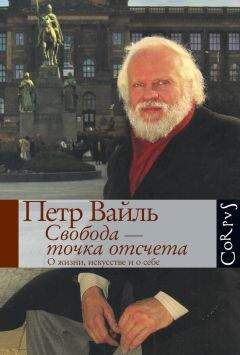Ознакомительная версия.
Вдали над Пряничными рядами высится Ленин, уже на расстоянии удивляя блатной позой: живот выпячен, все расстегнуто, рука в кармане. Иван Сусанин на Молочной горе над Волгой, напротив, обтекаем так, что выглядит продолжением круглого постамента. Неподалеку в сквере лежит гранитная колона — остатки прежнего памятника, сброшенного в 1917-м. Тот был еще хуже: на колонне бюст царя Михаила, под колонной — Сусанин на коленях. Средоточия все-таки в Азии.
Разгул Азии — на рынке. Никакой уникальности — такова вся Россия. Даже пошехонский сыр из Солигалича и взращенную сумеречным сознанием колбасу «Вечернюю» продают с акцентом и напором. «Бойкая женщина. — Она, должно быть, не русская. — Отчего? — Уж очень проворна». Диалог купцов из костромской пьесы Островского «Бесприданница» звучит свежо. Орел не зря двуглавый: суровый взгляд брошен разом на Азию и на Европу. Как поясняет в «Бесприданнице» герой: «Иностранец, голландец он, душа коротка; у них арифметика вместо души-то».
Неисчисляемая сущность одушевляет арифметику купли-продажи. В кондитерском закутке две продавщицы, одна отрывается от газеты и говорит: «Известный киноартист, который убил дворника. Шесть букв». Вторая задумчиво произносит: «Гурзо». Ясно, зефиру не дадут, пока не найдут истину, пора поторопить: «Девушки, Гурзо не получится, у него пять букв». Первая отвечает: «Да они, артисты эти, для них разве дворник-человек?» Меняется масштаб: взлет на уровень беседы Алеши Карамазова со старцем Зосимой. Не важно, кто убил — Гурзо или Юматов, нужно понять: кто тварь дрожащая, а кто право имеет? Продавщицы по уши в Достоевском раздумье, не до клиента с его килограммом ерунды. Можно никогда отсюда не уходить, прожить до конца с этими тетками, дойти до самой сути. Жутковато, что того и вожделеет нечто внутри, о том вкрадчивый мотив из заповедных недр души, той самой, неукороченной, уходящей в никуда. Как знакома и желанна эта музыка: покидать Достоевский закуток без зефира, но с бездной, пересекать космос рыночного двора, бесконечно истово исповедоваться родному человеку: «С получки беру только „Балтику“, троечку. Так можно „Ярпиво“, „Клинское“ там, „Шкипера“ даже, но с получки — только „Балтику“. Вот как перед тобой стою, хочешь верь, хочешь нет». Хотят, верят; «Ты знаешь, ничего плохого, кроме одного хорошего. Честно, ничего плохого, кроме одного хорошего». Конечно, ничего. Что плохого в единении неарифметических душ, в благостном согласии? Разве что его хрупкость. Недавняя приволжская быль цитируется по официальному агентству: «При тушении пожара в частном доме были найдены обгоревшие трупы двух мужчин с травмами головы. В ходе следствия удалось выйти на подозреваемых в убийстве двух жителей села в возрасте 20 и 22 лет. При допросе подозреваемые рассказали, что в ходе застолья четверо мужчин поспорили о том, футболист или хоккеист Павел Буре. Когда все доводы были исчерпаны, двое собутыльников забили двух других табуретками, после чего облили тела легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли».
У пивного прилавка, где заметка прочитана вслух, возникает широкая дискуссия. Главное выясняется сразу — хоккеист: «Ну, козлы, они б еще боксера из него сделали!» Дальше-прирда жидкости: «Семьдесят шестой лей не лей, ничего не выйдет. Девяносто третий, наверно. Или карасин» Наконец, вопрос нравственный — почему попались «Да в жопу пьяные, не соображаю ни херя, пить не умеют». Следующие полчаса проходят в осуждении «пианственной страсти».
Термин не от ларька а из брошюры «Как молиться об исцелении от недуга пьянства», которой торгуют через площадь, у гауптвахты работы алкоголика Фурсова. На обложке — икона «Неупиваемая чаша»: Богоматерь с Младенцем, непочтительно, на мирской взгляд, вставленным в фужер. Тексты выразительные, но утопические, вот как в молитве преподобному Моисею Мурину: «Чтобы они, обновленные, в трезвении и светлом уме, возлюбили воздержание». Обнаруживается и неполное понимание предмета: «Помоги им, угодник Божий Вонифатий, когда жажда вина станет жечь их гортань, уничтожь их пагубное желание, освежи их уста небесною прохладою». С похмелья прогулка на свежем воздухе, действительно, помогает, но жжение гортани устраняется либо течением времени, либо пивом. Сам мученик Вонифатий, о котором сказано «в нечистотах валяшеся и пиянице бяше», наверняка знал такие элементарные вещи, но достался непрофессионалам.
Вонифатьевская мантра все же срабатывает: костромские улицы выглядят пристойнее многих. В Ипатьевской слободе и в других местах не так уж заметен «пьяный бардак», о котором поет БГ, в который так заманчиво удобно погрузиться, разом решив все вопросы, кроме места дворника в мироздании.
Лучший вид на город — от Ильинской церкви с правого берега Волги, но очарование не пропадает и при взгляде в упор. Опрятная бедность отличает Кострому-бесприданницу, в переводе на русский — регион-реципиент, где даже фирменный лен на длинных столах у Ипатьевского монастыря оказывается ярославским: он тоньше и мягче.
С раннего утра в колоннаде Мелочных рядов — двое в отрепьях среди десятка грязных рюкзаков, мешков, мешочков. Издали выглядят жертвами социальных катаклизмов — вблизи оказываются героями эпохи перемен. Прислонив к беленой стене лопаты в свежей земле, курят в ожидании клиентуры. Над ними вывеска на картонке: «ЧЕРВЬ». Малый бизнес над великой рекой. Червь точит, слеза течет. Труд и глад. Голь и стыд. Смех и боль. Кострома мон амур.
По дороге вдоль глубоко врезанной в материк Цемесской бухты — памятники войны. Разбомбленный Дом культуры, остов сгоревшего вагона, гранитные обелиски, стелы, матросы. Холмы с откосами из белого с багровыми разводами мергеля создают выразительный фон. Новороссийск опоясывают монументы гибели. Не только военной. Самые потрясающие — самопотоплению.
Здесь, в 18-м, ставя заслон, ушла под воду черноморская эскадра. Мемориальный ансамбль обозначает место затопления каждого эсминца и транспортника, указывая направление и дистанцию в метрах. Дальше к Геленджику, у Кабардинки, утонул «Адмирал Нахимов». На белых мачтах укреплен циферблат — 23 часа 20 минут 31 августа 1986 года. Расстояние от берега не названо, но местные показывают: «Вон где буксир, чуть правее». В теплый летний вечер при освещенном береге доплыть можно, даже не умея плавать. Нет ответа, почему пошли на дно сотни людей. «Да бардак потому что и глупость», — говорят местные, уверенные, что это исчерпывающе. У самого моря в Южной Озерейке — павильон без названия из бледных сварных листов. Сортир с узорной надписью «общий туалет» — во дворе. Рядом причаливают баркасы, заполненные камбалой, которую тащат в забегаловку, очень вкусно жарят и подают с водкой.
Официантка спрашивает, нет ли мобильного телефона, — тут один утонул, нужно вызвать «скорую».
Мужчина лежит у воды на спине. Он в носках — не снимал, чтоб не порезать ноги о камни. Большой живот то ли вздулся сейчас, то ли было так. Медсестра в кожаной куртке командует: «Я подышу, пусть кто-нибудь покачает. Есть мужики, ебит твою?» Мужики находятся и по очереди делают массаж сердца, пока сестра тискает прижатый ко рту утопленника пластиковый пузырь с беспрестанно слетающей крышкой. Еле стоящий даже на коленях парень, оказавшийся внуком, зажимает деду большой багровый нос. Постепенно багровеет все лицо, потом шея, плечи. Сестра колет адреналин в вену, прикладывает к груди фонендоскоп. Мужики, сменяясь на массаже, рассказывают друг другу, что старик приехал из Цемдолины покушать, выпил-то всего стакан, ну два, перед тем как пошел окунуться. Тело содрогается, под живот сползают трусы, сестра поправляет их не глядя. Проходит полчаса, изредка то изо рта, то из носа вытекают слабые струйки темной жидкости. Сестра запускает руку в горло, поднимает палец с чем-то вязким: «Какие пять минут под водой, какие пять минут, что ты мне рассказываешь?» Внук мычит.
Приезжает машина реанимации. Врач делает два шага и сразу говорит: «Все, кошачий глаз, конец». Кто-то дерзко выкрикивает: «Как конец? Ты делай что-то!» Реаниматор повторяет: «Все, конец, биологическая смерть». Внук растерянно переспрашивает: «Как это геологическая?» Заполняя на весу бумажку, врач кивает: «Да так». Парень поворачивается к собравшимся, веско говорит: «Все, геологическая смерть». Садится на гальку и плачет. Мертвец лежит на самой кромке. Вокруг переговариваются, подзывают, матерятся — вполголоса. И ровно с такой же тихой силой плещет море, накатывая на кроссовки внука, омывая руку деда, подбрасывая шприц, мешая сестре слушать — бьется ли что-нибудь, кроме волны.
Для девятнадцатиместного самолета, совершающего рейсы из Архангельска на Соловецкие острова, ветер слишком сильный. О ветре говорят потом, сначала важно врут: «Воздушное судно заправляется». Судна приходится ждать четыре часа в аэропорту Васьково. Универсальный пейзаж: пыльная площадь, глухая бетонная стена в причудливых разводах мочи понизу и однообразных похабных рисунках повыше, сортирная облицовка здания администрации, облупленная веселенькая мозаика с колбами и космонавтами. Главный городской аэропорт не здесь, отсюда летают в Вожгору, Койнас, Лопшеныу, Олему, Летнюю Золотицу. На Соловки. До Архангельска долгий путь поездом. На остановках вдоль вагонов снуют местные с дарами северной земли: пиво, эскимо, кока-кола. Раз попались пироги с рыбой. «Какая рыба-то?» — «Как „какая“ — путассу! Филе!» Зачем-то полчаса стоим у покосившегося бетонного навеса. В дождь туда набилось десятка два хмурых мужиков, над ними знак географии: «Платформа Миздрюки». Вокруг Миздрюков — ржавые вагоны, на каждом таинственная надпись, прерванная сварным швом: ЩЕ ПА. Никак по-французски. Как всегда в новых местах, примеряешь окружающее к себе, представляя возможные извивы судьбы, воображение тормозит с жалобным визгом: про жить и умереть в Поселке 23-го квартала. На остановке в Емце проводы с музыкой, «по последней, как говорится, на ход ноги», наказы наспех: «Дверь закрывай, комары налетят. Собачку корми, котят и крысу не забывай». Уходят под грохот большого транзистора. Проводницы осуждают «Да если б там мелодия была, я б сама слушала! А то ведь как сваи забивают, как сваи!» — «Сваи, сваи, точно сваи». На десять минут можно выйти в Коноше. Блеклая летняя полночь. Сорока годами раньше ровно это примерял к себе ссыльный Бродский: гигантские штабеля березовых стволов, длинное белое здание вокзала, состав из Воркуты, на западе — лимонный отсвет за вершинами сосен.
Ознакомительная версия.