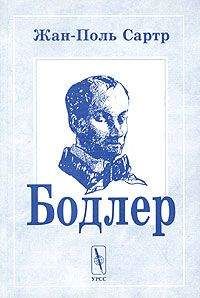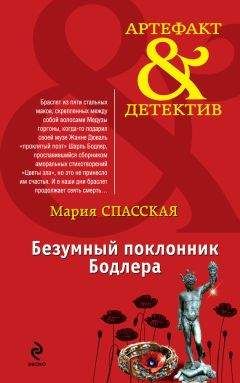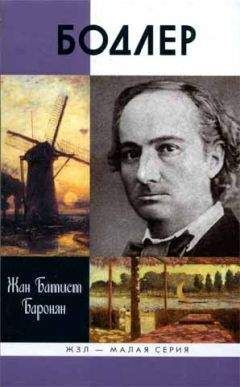Среди отребья заурядных грешников она выглядит так же неуместно, как какая-нибудь герцогиня среди потаскух в тюрьме Сен-Лазар. Впрочем, Бодлер, числящий себя среди аристократов Зла, не настолько верит в Бога, чтобы искренне страшиться Ада. Проклятие подстерегает его здесь, на этой земле, хотя он и не верит в окончательность приговора: проклятие — это укоризна со стороны Другого, это взгляд генерала Опика, материнское письмо, которое он носит в кармане, не решаясь его распечатать, это семейный совет и даже покровительственная болтовня Анселя. Однако наступит день, когда он наконец-то расплатится со всеми долгами, и мать получит возможность даровать ему прощение; в конечном искуплении он не сомневается ни на минуту. Понятно теперь, почему он желает быть судимым только строгими судьями: ведь всякая душевность, снисходительность, терпимость, сняв с него часть вины, тем самым ослабили бы и его свободу. И вот уже он во власти порока. По поводу Бодлера весьма точно выразился Жюль Леметр: «Поскольку религиозные чувства позволяют пережить ужас и любовь с несравненной глубиной и напряжением, люди готовы разжигать и распалять их вновь и вновь, причем нередко в тех случаях, когда ищут ощущений, самым недвусмысленным образом осуждаемых этими чувствами. В результате получается нечто восхитительное в своей искусственности…» (Lemailre. Journal des Debate. 1887).
Не приходится сомневаться в том, что, греша, Бодлер получал от этого удовольствие, природу которого следует, однако, уточнить. В самом деле, утверждая, что бодлеризм — это «высший накал интеллектуального и чувственного эпикуреизма», Леметр глубоко заблуждается. Бодлер вовсе не стремился распалить свою чувственность; напротив, он с чистой совестью мог бы признаться, что если кто и отравлял ему удовольствия, так это он сам. Более того, мысль об эпикурейских удовольствиях вообще ему чужда. Однако если грех ведет к сладострастию, то, значит, и сладострастие поощряет грех, приобретающий совершенно особое положение: раз он запретен, то, стало быть, бесполезен; он — предмет роскоши. С другой стороны, поскольку свобода избирает греховность как средство бунта против существующего порядка вещей и, порождая грех, выносит приговор самой себе, то акт грехопадения оказывается подобен акту творения. Животные удовольствия, удовлетворяющие наши чувственные потребности, превращают человека в раба природы, обезличивают его. Напротив, то, что Бодлер называет Сладострастием, есть нечто редкостное и изысканное: миг сладострастия — коль скоро сразу же вслед за ним грешнику суждено окунуться в пучину раскаяния — оказывается совершенно особым, неповторимым мигом ангажированности. Отдаться сладострастию — значит признать себя виновным; судьи не сводят глаз с грешника, наблюдая за тем, как он уступает своему греху: он грешит публично и, ощущая, как — под действием морального осуждения, которое он заслужил и которое превращает его в объект, — на него нисходит чувство немилосердной безопасности, он в то же время испытывает гордость оттого, что он свободен и что он — творец. Вот эта-то обращенность на самого себя, непременная спутница бодлеровского греха, и не позволяет ему безоглядно отдаться удовольствию. Погружаясь в наслаждение, он никогда не теряет головы, но, наоборот, именно в разгар услад обретает самого себя: вот он, весь целиком, свободный человек и осужденный злодей, творец и преступник. Наслаждаясь самим собой, Бодлер тем самым создает созерцательную дистанцию между своим «я» и своим удовольствием. В его сладострастии есть некая сдержанность, он его не столько переживает, сколько разглядывает, он не бросается в сладострастие, но лишь слегка его касается, оно для него, конечно, цель, но также и повод; свобода и угрызения совести облагораживают бодлеровское сладострастие, а Зло как бы истончает его и лишает субстанции. «А я сказал: единственное и высшее сластолюбие в любви — твердо знать, что творишь зло. И мужчина, и женщина от рождения знают, что сладострастие всегда коренится в области зла».
Вот теперь — но только теперь — мы можем наконец уяснить смысл знаменитой фразы Бодлера:
Совсем еще ребенком я питал в своем сердце два противоречивых чувства — ужас перед жизнью и восторг жизни.
Как и прежде, в данном случае не следует рассматривать этот «ужас» и этот «восторг» независимо друг от друга. Ужас перед жизнью — это ужас перед всем природным, перед спонтанным преизбытком самой природы, равно как и перед живой мякотью лимбов сознания. Кроме того, это также приверженность Бодлера к куцему консерватизму Жозефа де Местра с его пристрастием ко всяческим ограничениям и искусственным категориям. Вслед за тем, однако, — под надежным прикрытием указанных заграждений — в Бодлере рождается восторг жизни. Вот эта-то специфически бодлеровская смесь созерцания и удовольствия, это одухотворенное наслаждение, которое самому Бодлеру угодно было именовать «сладострастием», и есть не что иное, как угощение, подносимое Злом, когда тело не сливается с телом, а ласка на переходит в судорожные объятия. Бодлера подозревали в импотенции. Несомненно лишь то, что физическое обладание, столь близкое к сугубо природному удовольствию, и вправду не слишком его интересовало. О женщине он с презрением говорил, что «она в течке и хочет, чтобы ее…». Что же до собратьев-интеллектуалов, то он утверждал, что «чем больше они отдаются искусству, тем хуже у них с потенцией», — слова, которые вполне можно истолковать как личное признание Бодлера. Однако жизнь — не природа, и в «Моем обнаженном сердце» Бодлер заявляет, что обладает «очень острым вкусом к жизни и к наслаждению». Надо понимать, что дело для него идет об отцеженной, дистанцированной, преображенной с помощью свободы жизни и об удовольствии, одухотворенном с помощью зла. Говоря попросту, чувственность преобладает в нем над темпераментом. Опьяненный собственными ощущениями, темпераментный человек полностью забывается; Бодлер же не умеет терять над собою контроль. Сам по себе половой акт вызывает у него ужас именно потому, что он природен, брутален, равно как и потому, что его суть заключается в общении с Другим: «Совокупляться — значит стремиться к проникновению в другого, а художник никогда не выходит за пределы самого себя». Существуют, впрочем, удовольствия, получаемые на расстоянии, когда, например, можно видеть, осязать женское тело или вдыхать его запах. Вероятно, такими удовольствиями Бодлер по большей части и пробавлялся. Соглядатаем и фетишистом он был именно потому, что пороки как бы смягчали в нем любострастие, потому, что они позволяли ему обладать вожделенным объектом на расстоянии, так сказать, символически; соглядатай сам ни в чем не участвует; закутавшись по самую шею, он во все глаза смотрит на обнаженное тело, не дотрагиваясь до него, — и вдруг по всему его телу пробегает совершенно непристойная, хотя и сдерживаемая дрожь. Он творит зло, и ему это ведомо; ведь, вступая в обладание другим на расстоянии, сам он ему не отдается. В этом смысле не так уж и важно, получал ли Бодлер сексуальное удовлетворение в одиночку (на что кое-кто намекал) или прибегал к тому способу, который с нарочитой грубостью называл «е…», поскольку, строго говоря, даже и в акте соития он все равно остался бы одиночкой, мастурбатором, умея, в сущности, получать наслаждение только от самого факта прегрешения. Главное состоит в том, что он был влюблен в «жизнь», но в жизнь усмиренную, укрощенную, взнузданную, и что почвой, на которой возросла эта нечистая любовь, подобная цветку Зла, служил ужас. Вот почему в целом Бодлер представлял себе грех главным образом как нечто эротическое. Множество прочих форм зла: предательство, низость, зависть, насилие, скупость, да мало ли что еще, — все это оставалось для него совершенно чуждым. Себе он выбрал роскошный, аристократический грех. Когда дело шло о его реальных недостатках, о лени, о стремлении «откладывать на завтра» все, что только можно, то тут ему было не до шуток. Эти свои недостатки он ненавидит, приходит от них в отчаяние, и причина в том, что, отнюдь не мешая достижению предустановленных целей, они препятствуют осуществлению его свободы. Он уподобляется мазохисту, целующему ноги проститутке в тот самый момент, когда та, требуя денег, хлещет его по щекам, и готовому убить всякого, кто ее оскорбит, пусть даже и справедливо. Все дело в том, что для Бодлера речь идет всего лишь об игре, не имеющей практических последствий, — об игре с жизнью, об игре со Злом. Он, собственно, и находит в ней удовольствие именно потому, что это — игра. На свете нет ничего, что позволило бы лучше почувствовать свободу и одиночество, нежели эти безрезультатные, бесплодные, бесследные действия, нежели такое вот призрачное, желаемое, чаемое, но так и не воплощенное зло. При всем том права Добра сохраняются в полной неприкосновенности; по телу грешника пробежала легкая дрожь, только и всего; тень лишь коснулась его, но не накрыла собою. Рассказывают, что Бюффон делал записи на манжетах; совершенно аналогичным образом Бодлер, собираясь заняться любовью, надевает перчатки.