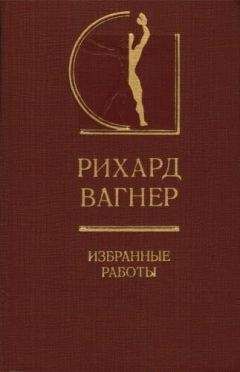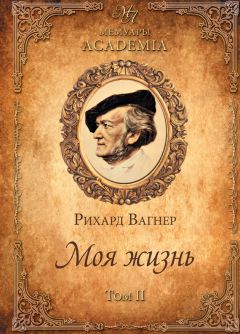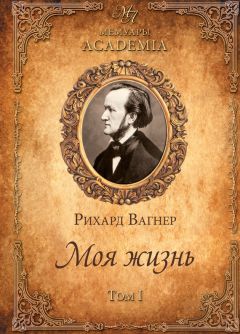Вам будет достаточно этой небольшой биографической заметки. После того как я обрисовал положение оперы в Германии, Вы легко представите себе мой дальнейший путь. Ни с чем не сравнимая гложущая тоска, нападавшая на меня во время дирижирования нашими обычными операми, часто сменялась несказанным чувством восторженного блаженства, когда при исполнении время от времени более возвышенных произведений я всей душой ощущал необыкновенную силу совместного воздействия драмы и музыки именно во время их исполнения, воздействия, по своей глубине, проникновенности и одновременно непосредственной живости недоступного никакому другому искусству. При всем моем отвращении к ставшему уже типичным духу наших оперных постановок меня удерживало в театре то, что там могли повторяться такие впечатления, которые, как при свете молнии, показывали дотоле неведомые мне возможности. В числе особенно ярких впечатлений такого рода вспоминаются мне те, что я пережил, когда слушал в Берлине оперу Спонтини под управлением самого маэстро; я переживал также возвышенные, благородные чувства и тогда, когда разучивал с небольшой оперной труппой прекрасное творение Мегюля «Иосиф». Когда лет двадцать тому назад я прожил в Париже более или менее долго, постановки в «Гранд-Опера» своим музыкальным совершенством и пластичностью мизансцен произвели на меня ослепительное, вдохновляющее впечатление. Но еще в ранней молодости на меня чрезвычайно большое воздействие оказала своим художественным исполнением одна драматическая певица, для меня непревзойденная, — Шредер-Девриент. Париж, а возможно, и Вы познакомились в свое время с этой высоко одаренной исполнительницей. Ее несравненный драматический талант, неподражаемая гармоничность и индивидуальный характер ее игры, в которых я убедился собственными глазами и ушами, околдовали меня и оказали решительное влияние на мои художественные взгляды. Я прозрел, и понял, что такое исполнение возможно, и пришел к законному желанию требовать того же не только для музыкально-драматического исполнения, но и для музыкально-стихотворного замысла художественного произведения, которое мне даже не хотелось называть оперой. Меня огорчало, что такая актриса в поисках материала для применения своего таланта вынуждена приноравливаться к самой ничтожной оперной продукции, а с другой стороны, я был поражен той задушевностью, той пленительной красотой, которую она сумела вложить в исполнение роли Ромео в слабой опере Беллини102, и я подумал, каким шедевром было бы произведение искусства, во всех своих частях достойное артистического таланта такой актрисы и равных ей по таланту актеров.
Чем напряженнее под этими впечатлениями думал я о том, что можно сделать в оперном жанре, чем осуществимее казалось мне выполнение задуманного, если направить в русло музыкальной драмы весь тот богатый поток немецкой музыки, который всколыхнул Бетховен, тем невыносимее и тяжелее становилось для меня ежедневно иметь дело с операми, по существу своему столь бесконечно далекими от внутренне осознанного мною идеала. Разрешите мне опустить описание ставшей в конце концов невыносимой душевной тоски художника, который, все яснее видя возможности осуществить несравненный шедевр, чувствует себя в заколдованном кругу, ежедневно имея дело с жанром искусства, в своей обычной, ремесленной практике диаметрально противоположным переполняющему его сердце идеалу. Все мои попытки способствовать реформе самого оперного театра, мои предложения этому институту искусства последовать твердо высказанным мною принципам и самому пойти по пути осуществления моей мечты, взяв за мерило для всех постановок прекрасные, но чрезвычайно редкие в его стенах оперные спектакли, — все мои старания в этом направлении потерпели фиаско. Наконец для меня стало совершенно ясно, какие культурные цели преследует современный театр, в данном случае оперный, и понимание этого переполнило меня таким отвращением, таким отчаянием, что я, видя тщету всех моих попыток реформы, отказался иметь какое-либо дело с этим фривольным институтом.
Я испытывал внутреннее непреодолимое побуждение попытаться объяснить самому себе неподдающееся изменению состояние современного театра его социальным положением. Не буду отрицать, это было бессмысленно, ибо бессмысленно было думать, что учреждение, призванное в основном увеселять и тешить скучающую и потому падкую до развлечений публику, а кроме того, вынужденное давать доход, а значит, снижать цену на постановки, — глупо было думать, что такой театр можно использовать для прямо противоположных целей, а именно — отвлекать публику от мелких каждодневных интересов и настраивать ее на благоговейное восприятие самого возвышенного и глубокого, что доступно духу человека. У меня было время поразмыслить о причинах такого общественного положения нашего театра и сопоставить их с основами тех социальных отношений, которые сами по себе могли бы создать необходимые условия для театра, о котором я мечтал, так же как отношения нашего времени обусловливают современный немецкий театр. Как отдельные редкие постановки с участием гениальных исполнителей показали мне, каким должен быть характер моего музыкально-драматического идеала, так и история дала мне типический образец для мыслимого мною идеального отношения между театром и обществом.
Я нашел его в театре античных Афин, где представления приурочивались к особо чтимым, священным, торжественным дням, где наслаждение искусством соединялось с религиозным празднеством, в котором принимали участие в качестве авторов и актеров достойнейшие мужи афинского государства, подобно жрецам выступая перед зрителями, собравшимися сюда со всей страны и столь преисполненными торжественностью происходящего, что можно было ставить творения таких глубокомысленных авторов, как Эсхил и Софокл, и не сомневаться, что народ поймет их.
С грустью размышлял я об упадке этого несравненного театрального искусства, и вскоре мне стало ясно, чем он был вызван. Вначале мое внимание привлекали социальные причины этого упадка, и я подумал, что их надо искать в причинах упадка античного государства. Исходя из этого, я попытался найти основные социальные положения государственной структуры, при которой, исправив ошибки античного государства, можно было бы создать между искусством и общественной жизнью такое взаимоотношение, какое некогда существовало в Афинах, и даже, если возможно, еще более возвышенное и длительное. Относящиеся к этому мысли я изложил в статье, озаглавленной «Искусство и революция»; от своего первоначального желания опубликовать эти мысли в ряде статей во французском политическом журнале я отказался, когда меня уверили, что сейчас неподходящее время (это было в 1849 году) и привлечь внимание парижской публики к такой теме навряд ли удастся. Более подробное знакомство с содержанием этого памфлета завело бы нас, как я теперь полагаю, слишком далеко; и Вы, без сомнения, будете мне признательны, что я не стану утруждать Вас такой попыткой. Достаточно того, что вышеизложенным я показал Вам, в какие, с виду далекие от искусства, размышления я пустился, дабы поставить на твердую почву мой художественный идеал в той действительности, которая опять-таки существует только в идеале.
Более длительное время занимался я изучением характера упадка великого греческого театрального искусства. Здесь я прежде всего обнаружил одно обращающее на себя внимание обстоятельство: распад, разъединение до того объединенных в совершенной драме отдельных отраслей искусства. Объединенные в мощный союз, все виды искусства, сообща стремясь к общей цели, могли сделать понятными всему народу самые возвышенные и глубокие помыслы человечества, а распавшись на свои составные части, театр уже потерял свое значение вдохновенного учителя общества в целом, и, в то время как народные массы развлекались сражениями гладиаторов между собой и с дикими зверями, люди просвещенные находили отраду, в одиночестве предаваясь занятиям литературой или живописью. Теперь я понял, как мне казалось, самое важное: до какой бы силы выразительности ни были доведены гениальными художниками отдельные виды искусства, развивавшиеся самостоятельно, нельзя рассчитывать, не впадая в противоестественность и несомненные ошибки, создать при таком разобщении видов искусства произведение, которое заменило бы то всесильное произведение, какое возможно было создать, только объединив их. Опираясь на высказывания известнейших теоретиков искусства (например, на исследования Лессинга о границах живописи и поэзии), я, казалось мне, пришел к пониманию того, что каждая отрасль искусства в своем развитии доходит в конце концов до предела своих возможностей и перешагнуть этот предел, не рискуя стать непонятным, абсолютно фантастическим, больше того — абсурдным, не дано ни одному виду искусства. Я полагал, что у этого предела в каждом виде искусства обнаруживается стремление соединиться с родственным ему видом; принимая во внимание мой идеал, я, разумеется, должен был живо интересоваться возможностью проследить это стремление в каждом отдельном виде искусства; и в конце концов я подумал, что при необычайном значении новейшей музыки яснее и убедительнее всего я смогу показать это стремление на поэзии и музыке. В то время как я старался путем размышлений представить себе такое произведение, где ради достижения совершенства были бы соединены все отдельные виды искусства, я, само собой разумеется, пришел к сознательному взгляду на тот идеал, который мало-помалу бессознательно у меня выработался и теперь вставал передо мной, как перед требовательным художником. Помня, в какое неправильное положение поставлен театр относительно общества, я считал, что идеальное произведение искусства не может быть достойным образом осуществлено в наше время, и потому назвал свой идеал «Произведение искусства будущего». Я опубликовал под таким заглавием более подробный трактат, в котором обстоятельнее развил вышеизложенные размышления; и этому заглавию обязаны мы (да будет это упомянуто вскользь!) возникновением выдуманного призрака «музыки будущего», который, бродя по страницам французских статей по искусству, шутит над нами злые шутки, и Вы, конечно, легко догадаетесь, какое непонимание его породило и для какой цели он был выдуман.