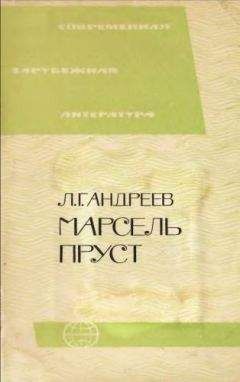Да, искусство Пруста могло по-настоящему стать собой только тогда, когда жизнь ушла и осталось искать утерянное время, только тогда, когда вынашивавшаяся Прустом теоретическая формула смогла получить жизненную реализацию. Но искусство — это единственное средство нахождения утраченного времени. Обратившись к искусству, Пруст занимается поисками утраченного, но прожитого им времени, восстанавливает дотошно, кропотливо не какую иную, а реальную жизнь («все материалы произведения — моя прошлая жизнь»), вновь возвращается к ней, хотя бы и с помощью памяти. И приступая к роману, Пруст обещает появление «крайне реальной книги», обещает ни более, ни менее как рассказать о «нашей прошлой жизни в Комбре у двоюродной бабушки, в Бальбеке, в Париже, в Донсьере, в Венеции, в других местах, вспомнить места, людей, которых я знал, то, что мне о них рассказывали».
Таким образом, Пруст идет в общем по тому же кругу, который проходили импрессионисты, объявлявшие, что все во впечатлении, однако, во впечатлении от реального мира, а потому неудержно тяготевшие к объективной реальности как к питательному источнику искусства. В этом кругу размещаются, казалось бы, противоречащие одно другому свойства, идеи, пристрастия Пруста: «все — в сознании» и «все перечувствовать», обратившись к «источнику самой жизни», эстетизированное понимание Рёскина и невозможность оторваться от Бальзака как от самой реальности, редкая, уникальная наблюдательность и поверхностность завсегдатая салонов.
Память в таких условиях оказывается как бы основной или единственной жизнетворящей силой (реален лишь мир, раскрываемый ею, мир прошлого), а вместе с тем и силой творческой, подлинным началом искусства. Вот почему сам момент, когда «инстинктивная память» начинает действовать, изображается писателем как мгновение острейшего наслаждения: «в то же самое мгновение» «сладчайшее наслаждение» (вновь неизменное «plaisir») «овладело мною, само по себе, без причины». Это начало созидания, начало искусства — начало существования в понимании Марселя Пруста, поскольку «время», наконец, «найдено».
Марсель Пруст вырабатывает в своем огромном романе метод изображения реальности, которому стремится дать точное определение. Сами эти определения таковы, что можно считать метод Пруста по главному его признаку импрессионистическим. «Лишь грубое и ошибочное представление все помещает в объект, тогда как все в сознании», — пишет Пруст. Он все время говорит о превосходстве чувства над разумом, о преимуществах познания с помощью впечатления над познанием логическим.[64] Лишь первое для него адекватно, второе же никакой гарантии истинности не дает. «Только впечатление — критерий истины. Впечатление для писателя — то же, что экспериментирование для ученого, с той разницей, что у ученого работа мысли предшествует, а у писателя идет следом». Творческий акт, по Прусту, прежде всего инстинктивен, это неожиданный порыв, застающий художника врасплох, вынуждающий его к творчеству. Никакие теории и программы отношения к нему не имеют. Это голос инстинкта, раздающийся в молчании уединения. Мечтать о создании произведений «интеллектуальных» — значит грубо ошибаться. Пруст «уступает» дорогу впечатлению, факту, сдерживая свой темперамент морализатора, приберегая выводы к концу. Писатель — «переводчик», он не описывает, не выдумывает, а «переводит» то, что заключено в нем. Писатель пассивен, он «орудие».
Заметим попутно, что «инстинктивное искусство» Пруст обосновывает в длиннейших рассуждениях последней части романа, обнаруживающих в писателе и крайний рационализм, и склонность к морализаторству, достойную традиции французских морализаторов. Преклонявшийся перед инстинктом писатель превратил значительную часть целого тома романа в эссе о сущности искусства и обнаружил такой догматизм, такую нетерпимость к инакомыслящим, которая не вяжется с исходными импрессионистическими тезисами Пруста.
Импрессионизм Пруста «замешан» с натуралистически-позитивистскими свойствами метода, согласно которым лишь доступный «опыту», лишь непосредственно воспринимаемый факт заслуживает доверия и право быть использованным в художественном произведении. Весь огромный роман — это сделанная с большой искренностью попытка поделиться таким «опытом», таким надежным материалом. В писательской манере Пруста, в его методологии включены элементы позитивистско-натуралистического мировосприятия. Даже в том, как любит Пруст делать выводы и обобщения, очень часто в совершенно наукообразных терминах и аналогиях, даже в том, как он старается (при всем своем субъективизме — заметим) сначала показать факт, а потом сделать вывод (приступая к роману, сразу же объявил, что разъяснять будет потом, вслед, и главное разъяснение — в последнем томе), даже в том стремлении к системе, совершенно неизменном при всей импрессионистской бессистемности романа, и даже в том, с какой пристальностью и научной доскональностью он рассматривает психологическую материю, — есть что-то от естествоиспытателя. Пруст прошел не только школу Бальзака и импрессионизма. Им освоена школа французского позитивизма, школа натурализма. Конечно, исходные формулы Пруста кажутся опровергающими позитивизм, поскольку они ставят под сомнение абсолютную истинность данного факта — так к позитивизму подключается импрессионизм.
Писатель как бы опасается выйти за границу непосредственно данного, для него как бы уже ненадежно то сотворение образа, которое составляет исключительно сильную черту реализма и благодаря которой Толстой «может быть» то Карениной, то Безуховым, то Наташей Ростовой, то Нехлюдовым. Пруст, само собой разумеется, тоже домысливает и изображает своих персонажей, а не просто «списывает» со своей памяти. Однако если он и изображает, то стараясь все же руководствоваться личным опытом, держаться в рамках воспоминания, во всяком случае, внушает читателю убеждение в том, что весь отраженный им мир — содержимое его сознания, все персонажи романа — его родные и лично знакомые лица, а роман — всего-навсего дневник.
Любопытно, что Пруст тяготеет к написанию своего рода «историй болезни», которыми отличались в XIX веке натуралисты, к детальной фиксации психофизиологических процессов, к изучению болезненных, «сдвинутых» состояний, в которых усматривает родственную близость состояниям здоровым. Он всматривается в человека не только как естествоиспытатель, но и как медик. А может быть, и как тяжело больной человек, всю свою жизнь вынужденный взвешивать любое внутреннее состояние на весах своей болезни, весах постоянной угрозы смерти.
Роман автобиографичен. Рассказчик болеет астмой, обожает мать, пишет о Рёскине, печатается в «Фигаро» и т. д., и т. п. «Я» доминирует в произведении Пруста: здесь изображено то, что было непосредственным опытом этого «я», рассказано о том, что чувствовал, что переживал рассказчик. Только в одном случае допускается повествование не от первого лица — это «Любовь Свана», большая «вставная новелла» первой части романа «В сторону Свана». Но образ Свана вначале не воспринимается как нечто совершенно самостоятельное, отличное от «я» повествователя. Это скорее «двойник», повторение «я» и его судьбы, «объективизация» авторского «я» в образе, которому дано имя Сван и который подвергнут тщательному, «со стороны» социально-психологическому анализированию, кропотливому препарированию всех качеств. Перед читателем вырисовывается образ «лирического героя» во множестве тщательно воспроизведенных обстоятельств и мельчайших деталей быта.
Прав был Альберто Моравиа, назвавший роман Пруста (как и «Улисс» Джойса) «эпической поэмой повседневности».[65] Всмотримся, с чего начинается гигантское полотно Пруста: «Давно уже я стал ложиться рано. Иногда, едва только свеча была потушена, глаза мои закрывались так быстро, что я не успевал сказать себе: «Я засыпаю». И полчаса спустя мысль, что пора уже заснуть, пробуждала меня: я хотел положить книгу, которую, казалось мне, я все еще держу в руках, и задуть огонь».
Можно сказать, что роман «ни с чего не начинается». Для начала взято незначащее, рядовое мгновение, избрана ситуация, которая в жизни рассказчика повторялась ежедневно, тысячи раз, которая не обещает читателю ничего увлекательного, особенного, не таит в себе никакой интригующей повествовательной перспективы. Но зато эта ситуация знаменует собой отход ко сну, отход к такому состоянию, когда совершается так необходимое Прусту смешение времени. «Ковер-самолет» Пруста не сказочный, он ткется из повседневности; просто надо уснуть, а «во время сна человек держит вокруг себя нить часов, порядок лет и миров».
Произведение в целом может рассматриваться как весьма последовательное несмотря на произвольность изложения) изображение повседневной жизни рассказчика, его детства в Комбре, прогулок то в сторону, где живет буржуа Сван, то в сторону, где обосновались аристократы Германты, пейзажей, погоды, попутных встреч, первой любви к дочери Свана Жильберте, перипетий любви к Альбертине, путешествий в Бальбек, бесконечных посещений салонов. То, из чего состояла жизнь самого Пруста, воспроизводится в романе скрупулезно, с такой заботой о сохранении каждой детали, что роман можно счесть эпопеей натурализма. Зацепившись за какую-нибудь мелочь, Пруст может застрять надолго, на десятки страниц. Однако мелочь мелочи рознь, и иногда то, что кажется незначительным, может в искусстве нести огромную смысловую нагрузку. Общеизвестные эпизоды с поцелуем матери перед сном могут — и должны — восприниматься в общем контексте произведения, старательно собирающего, коллекционирующего мелочи. Но ведь поцелуй матери становится чрезвычайным событием, ради него герой совершает истинный подвиг не только из-за бедности впечатлений, редчайшей чувствительности и гипертрофированного сыновнего чувства. Речь идет о системе воспитания, о взаимоотношениях в семье, о «лестнице провинностей» — чувство ребенка натыкается на целую систему взглядов, привычек, обычаев в его семье, как частице определенной социальной среды, среды, где «царствуют принципы» и нестерпимое желание «приучать ребенка». Правда, конфликт обозначился «сам по себе» в добросовестно поданном жизненном материале — особой склонности к его осмыслению, к ясным социальным выводам автор не питал.