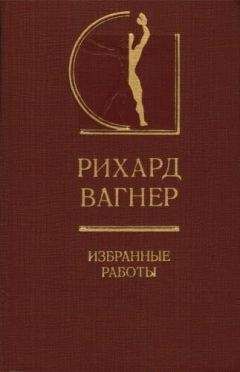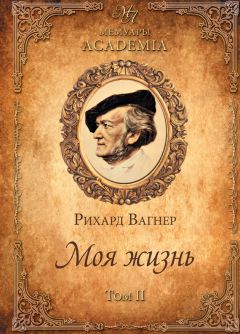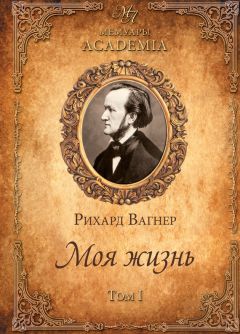В этом пункте обвинения явно содержится очень серьезный мотив. Однако при более близком изучении и здесь могут возникнуть известные сомнения. Так как композиторы издавна понимали и особенно ясно почувствовали с недавнего времени, что так называемый оперный текст должен быть интересным, то для их стараний им требуется хорошая книга. Для того чтобы опера, особенно в наши дни, могла оказывать сильное воздействие, необходимо, чтобы она была построена на заманчивом или даже интригующем действии, так что трудно совсем отказать свободно построенному оперному либретто в стремлении к драматичности. В этом отношении никоим образом не довольствовались малым, это мы видим из того, что нет почти ни одной пьесы Шекспира и скоро не будет уже ни одной пьесы Гете и Шиллера, которая не казалась бы вполне пригодной для того, чтобы превратиться в оперу. Это злоупотребление с полным основанием могло вызывать досаду наших актеров и театральных директоров, и они были вправе кричать: «Чего ради мы и дальше будем затрачивать усилия для правильного решения драматических задач, если публика бежит от нас туда, где эти задачи легкомысленно искажаются только ради того, чтобы было побольше самых пошлых „эффектов“?» Правда, им на это, можно возразить: разве немецкой публике нельзя было бы предложить оперу «Фауст» гна Гуно, если бы наши театральные подмостки действительно сумели донести до нее смысл гетевского «Фауста»? С неопровержимой очевидностью явствует, что, несмотря на все старания наших актеров чего-то добиться монологом Фауста, наша публика оставалась равнодушной, и предпочитала дарить свое внимание арии гна Гуно на тему о радостях юности, и разряжалась аплодисментами там, где для этого не было никаких оснований.
Нет примера ни более очевидного, ни более огорчительного, на котором можно было бы убедиться, до чего же вообще дошел наш театр. Однако даже и сейчас мы не должны думать, что в этом очевидном упадке винить следует только оперу: в действительности ее появление должно свидетельствовать, скорее, о слабости нашего театра, о невозможности для него в пределах его сферы и при помощи одних только находящихся в его распоряжении выразительных средств соответствовать идеальным задаткам драмы. Именно там, где высший идеал подвергается величайшему опошлению, как в только что приведенном примере, нам становится особенно тревожно, и опыт побуждает нас глубоко заглянуть в природу данной проблемы. Мы могли бы воздержаться от этого настоятельного побуждения, если бы захотели ограничиться только тем, чтобы, установив факт сильной деморализации общественного художественного вкуса, заняться изучением ее причин на широком поприще нашей общественной жизни. Но поскольку, исходя из этой точки зрения, мы пришли к устрашающим результатам, нам уже невозможно пуститься в долгий обходный путь и, полагая возможным возрождение нашей общественной мысли в целом, поверить в ее благотворное влияние, в частности, на художественный вкус нашего общества; поэтому кажется более благоразумным пойти прямым путем исследования основополагающей (и, в конечном счете, чисто эстетической) проблемы и найти ее решение, которое, может быть, позволит нам допустить отрадную возможность обратного воздействия — воздействия художественного вкуса на общественную мысль.
Чтобы сразу же поставить перед собой точную цель, выдвинем тезис, доказательство которого для нас весьма существенно. Он звучит так.
Допустим, что опера послужила явной причиной упадка театра. Если кажется сомнительным, что этот упадок вызвала опера, то, исходя из преобладающей силы ее воздействия теперь, все же, несомненно, придется признать, что именно опера может быть призвана для возрождения нашего театра; что это удастся ей только в том случае, если она приведет наш театр к таким достижениям, для осуществления которых в ней заложены особые идеальные природные задатки; что вследствие существовавших до сих пор несоответствующих и неудовлетворительных условий для развития этих задатков немецкий театр хирел сильнее, чем французский, которому они не были присущи, в силу чего в более ограниченной сфере ему легко удалось достичь реальной правдивости.
Разумно изложенная теория театрального пафоса разъяснила бы нам, где его можно было издавна предвидеть при идеальном направлении в развитии современной драмы. Здесь было бы поучительно обратить внимание на то, что итальянцы, которые всем тенденциям своего искусства учились прежде всего у античности, почти совершенно не развивали драму с декламацией, а сразу же приступили к попыткам реконструкции античной драмы на основе лирической музыки; таким путем, находясь в одностороннем заблуждении, которое все росло, они создавали оперу. В Италии это происходило потому, что там господствовало изысканное искусство высших общественных слоев нации; современная драма испанцев и англичан, после того как подражания ученых поэтов античным образцам не смогли оказать живого воздействия на нацию, стала развиваться под влиянием истинного народного духа. Только на этой реалистической основе, в которой Лопе де Вега оказался столь немыслимо продуктивным, Кальдерон довел у испанцев драму до той идеализирующей тенденции, в которой он в такой мере соприкасался с итальянцами, что во многих его пьесах мы находим элемент оперности. Может быть, и у англичан драма не была бы свободна от этой тенденции, если бы непостижимый гений Шекспира не сумел даже в реалистической народной драме показать самые благородные образы, заимствованные из истории и сказаний, с таким естественным правдоподобием, что она до сих пор не поддается ошибочным попыткам измерить ее масштабом античных форм. Восхищенное удивление перед непостижимостью и неподражаемостью Шекспира, может быть, не меньше, чем признание истинного значения античности и ее форм, способствовало формированию драматургии наших великих поэтов. И они снова взвешивали превосходные возможности оперы, но в конце концов для них так и осталось неясным, каким же образом, оставаясь верными своей точке зрения, они могли бы найти к ней путь. Даже пленительное впечатление, которое произвела на Шиллера глюковская «Ифигения в Тавриде», не могло заставить его найти модус, чтобы заняться оперой; Гете определенно полагал112, что здесь все решает только музыкальный гений, ибо при известии о смерти Моцарта он счел навсегда утраченными все огромные перспективы музыкальной драмы, которые ему открыл «Дон Жуан».
Таким образом, отношение Гете и Шиллера позволяет нам глубоко заглянуть в истинную натуру поэта. И если, с одной стороны, Шекспир и его приемы казались им непонятными, а с другой, в результате такого же непонимания приемов музыканта они считали, что только ему одному посильна задача идеального оживления драматических образов, то возникает вопрос: как же они — истинные поэты — относились к настоящей драме и могли ли они вообще, будучи поэтами, испытывать призвание к драматургии? Кажется, что сомнение в этом все сильнее овладевало обоими правдивыми мужами, и даже по изменчивой форме их набросков можно предположить, что они постоянно чувствовали себя как бы в состоянии поисков. Если мы попытаемся углубиться в природу этих сомнений, то можем найти здесь признание, что драме недостает поэтической сущности, которую саму по себе, однако, следует понимать как нечто абстрактное, и, только когда материал обретает форму, она становится конкретной. Если невозможно представить себе ни скульптора, ни музыканта, лишенного поэтической сущности, то тогда позвольте спросить: почему же именно то, что приводит их к созданию художественного произведения, действует в них как скрытая сила, а подлинный поэт может прийти к тому же результату только через осознанный творческий инстинкт?
Не пускаясь в изучение затронутых здесь тайн, мы все же должны помнить, чем отличается умственно и нравственно образованный современной поэт от наивного поэта древнего мира. Тот, прежде всего, сам выдумывал мифы, затем он становился их рассказчиком, произнося эпос вслух, и, наконец, их непосредственным изобразителем в живой драме. Этой троекратной формой прежде других поэтов овладел Платон для своих живых и щедро наполненных мифотворчеством драматических сцен-диалогов113, которые с полным основанием (особенно великолепный «Пир» этого поэтического философа) могут рассматриваться как недостижимый образец настоящей, всегда склонной к дидактике, литературной поэзии. Здесь абстрактно-популярные формы наивной поэзии использовались еще только ради того, чтобы сделать понятными философские тезисы, и сознательно введенная тенденция заменяет собою воздействие непосредственно увиденной жизненной ситуации. Использование «тенденции» в драме, разыгранной в лицах, очевидно, казалось нашим великим поэтам удачным способом облагородить существующий популярный театр; к этому мнению их могло склонить уважение к особым качествам античной драмы. Поскольку она достигала своеобразия своего трагизма в компромиссе между стихиями Аполлона и Диониса114, в ней могли соединиться на основе ставшей уже почти непонятной древнеэллинской лирики дидактический гимн жреца с более поздним дифирамбом в честь Диониса для пленительного эффекта, который так неотъемлемо присущ трагическим художественным произведениям греков. Действовавшая здесь стихия Аполлона на все времена приковала к греческой трагедии как литературному памятнику особое внимание прежде всего философов и дидактических поэтов; вполне понятно, что это могло привести и наших более поздних поэтов, видевших в ней лишь кажущееся литературное произведение, к мысли, что именно в дидактической тенденции нужно искать подлинное достоинство античной драмы и, следовательно, только внедряя тенденцию в существующую популярную драму, последнюю можно поднять на идеальную высоту. Однако подлинно художественный образ мыслей предостерег их от того, чтобы свою полную жизни драму принести в жертву голой тенденции; но средством, которое могло ее одухотворить и одновременно поставить на котурны идеальности, могла быть, по их мнению, только заранее продуманная высокая тенденция, тем более что единственному материалу, который находился в их распоряжении, — орудию для разъяснения понятий, языку слов, — только таким путем было возможно и полезно придать благородство и возвышенность. Поэтически выраженная сентенция могла быть уместна только при высокой тенденции; исходившее от нее воздействие на чувственное восприятие драмы, было возложено на так называемый поэтический слог. Но это и есть тот самый ложный пафос, который соблазнил наших великих поэтов при сценическом воплощении их собственных пьес, и распознание его должно было вызвать критические размышления после того, как они почувствовали силу воздействия глюковской «Ифигении» и моцартовского «Дон Жуана». Особенно на них должно было подействовать то обстоятельство, что под влиянием музыки драма сразу же перенесла их в сферу высшего совершенства, откуда самое простое движение действия представало в преображенном свете. Чувства и мотив сливались в одном непосредственном выражении и взывали к самому благородному умилению. Здесь пропадало всякое желание понять тенденцию, ибо сама идея осуществлялась перед ними как неоспоримый призыв к высшему сочувствию. Здесь уже не нужно было произносить: «Кто ищет, вынужден блуждать» или «Бытие не лучшее из благ», ибо сокровеннейшая тайна самой мудрой сентенции обнаруживалась перед ними без всяких покровов в ясной мелодической форме. Если та говорила: «Это значит», то эта говорила: «Это так и есть!» Высший пафос стал истинной душой драмы, будто из счастливого мира мечты явилась перед ними с приятной, правдивостью картина жизни.