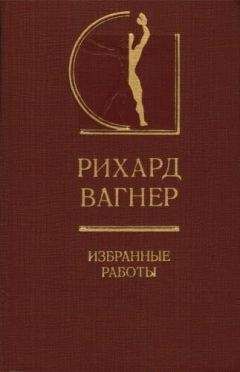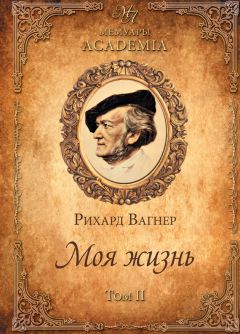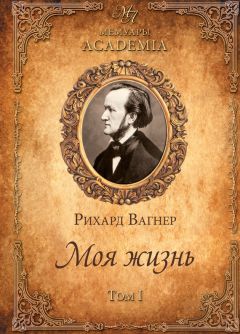Сущность драматического искусства в противоположность его поэтическому методу, и при этом весьма справедливо, оказывается, прежде всего, совершенно иррациональной, ее невозможно охватить, потому что у самого наблюдателя полностью меняется характер. В чем именно состоит это изменение, не составит трудности объяснить, если мы сошлемся на те естественные процессы, которые неизменно происходят при возникновении любого искусства и которые мы отчетливо видим во время импровизации. Если бы поэт задумал наметить план действия, которое должны представить импровизирующие мимы, он вел бы себя примерно так, как ведет себя автор оперного текста по отношению к музыканту; его произведение еще совершенно не вправе претендовать на какую-либо художественную ценность, но она будет в полной мере ему присуща, если поэт освоит дух импровизации мимического актера и создаст план действия, полностью отвечающий характеру этой импровизации, так чтобы мим в своем абсолютном своеобразии мог оказаться в сфере высшей проникновенности поэта. Совершенно несомненно, что произведение поэтического искусства претерпевает при этом сильное изменение, в чем можно было бы своеобразным способом убедиться, слушая насколько возможно правильно записанную импровизацию какого-нибудь большого музыканта. Перед нами лежат высказывания замечательных свидетелей о совершенно ни с чем не сравнимом впечатлении, которое произвела на друзей Бетховена его долгая импровизация за роялем: поэтому сетование на то, что никто не сумел запечатлеть это вдохновение в записи, нельзя считать преувеличенным, даже помня о великих творениях маэстро, ибо мы знаем по опыту, что и гораздо менее одаренный музыкант, в записанных композициях которого есть и одеревенелость и скованность, может повергнуть нас в полное изумление неожиданно обнаруженным и часто очень плодотворным творческим дарованием в свободной импровизации. Во всяком случае полагаем, что значительно облегчим решение этой чрезвычайно сложной проблемы, если назовем шекспировскую драму зафиксированной мимической импровизацией высшей поэтической ценности. Ибо если воспринимать ее так, то сразу станет понятной каждая случайность, которая нам кажется столь неожиданной в поведении и в речах действующих лиц: все они живут одним стремлением сейчас, в это самое мгновение, быть именно такими, какими они должны перед нами появиться, им никогда не придет на ум разговор, который был бы чужд их будто колдовством созданному характеру, а при более внимательном разглядывании нам стало бы просто смешно даже от одной мысли, что в каком-нибудь из этих образов перед нами может обнаружиться поэт. Поэт молчит и остается для нас такой же загадкой как и сам Шекспир. Но его творчество — единственная подлинная драматургия, и ее значение как произведения искусства определяется тем, что ее автора мы можем считать самым проницательным из всех поэтов, когда-либо творивших.
Драматургия Шекспира дает множество поводов для размышлений: выделим прежде всего те ее качества, которые представляются наиболее важными для нашего исследования. К ним относится то, что каждая драма независимо от всех ее прочих достоинств принадлежит к жанру настоящих, действенных театральных пьес, каким этот жанр создавали в разные времена авторы, у которых было к нему призвание, авторы, вышедшие из театра или стоявшие в непосредственной к нему близости; так, например, из года в год обогащались популярные театры французов. Различие состоит только в поэтических достоинствах одинаковым образом возникших подлинно драматических произведений. С первого взгляда может показаться, что достоинство драмы определяется величием и значительностью материала, отобранного для развития сюжета. Не только французам удавалось изображать в театре вообще все события современной жизни, но и немцам — несравненно менее способным к театральному делу — с обманчивой достоверностью удавались на сцене происшествия из жизни ограниченной обывательской среды, однако, по мере того как в театре стали изображать великие события, судьбы героев мировой истории и ее мифы, уже окончательно исчезнувшие из обыденного поля зрения и затерявшиеся в далекой выси, способность к правдивому воспроизведению стала ему изменять. Зато мимической импровизацией, которая так далеко не заходила, должен был завладеть поэт, его задачей было выдумывать мифы и создавать для них форму, а для этого нужен был особый, имеющий к тому призвание гений, который сумел бы поднять стиль мимической импровизации до уровня своей поэтической цели. Как удалось Шекспиру поднять своих актеров на эту высоту, пока еще остается для нас загадкой; достоверно известно только, что способности наших актеров терпят фиаско перед поставленной Шекспиром задачей. Остается предположить, что свойственная современным английским актерам своеобразная гротескная аффектация, как мы назвали ее выше, — это остаток одной из природных национальных особенностей англичан, присущей им издавна, когда простому народу в Англии жилось хорошо. Благодаря заразительному примеру поэтического мима она привела однажды к такому расцвету театрального представления, что ему по силам стало справиться с шекспировскими замыслами. Быть может, для того чтобы объяснить эту загадку, если мы не склонны считать ее просто чудом, мы могли бы сослаться на судьбу великого Себастьяна Баха; огромное множество труднейших произведений для хора, которые он нам оставил, прежде всего заставляют предположить, что для их исполнения в распоряжении маэстро находились несравненные вокальные силы, в то время как на самом деле мы знаем из неопровержимых документов, что он жаловался на жалкий состав[72] своего школьного хора мальчиков116. Известно, что Шекспир очень рано перестал заниматься театром, что мы вполне могли бы объяснить как огромной усталостью, которой стоило ему разучивание пьес, так и отчаянием гения, намного превосходившего стоявшую перед ним «возможность». Но природа этого гения становится нам понятной, только если мы будем исходить из этой «возможности», заложенной в природе мима и поэтому совершенно правильно угаданной гением; и мы вправе, объединив в одной великой общей взаимосвязи все культурные стремления человеческого гения, рассматривать их в каком-то смысле как завещанную великим драматургом своим потомкам задачу на самом деле осуществить эту высшую возможность в развитии дарований мимического искусства.
Кажется, у наших великих немецких поэтов было внутреннее побуждение внести и свой вклад в решение этой задачи. При этом они исходили из совершенно необходимого вывода, что Шекспиру нельзя подражать; это было решающим при замысле каждого нового поэтического произведения любой художественной формы, что мы, оставаясь верными своему предположению, вполне можем понять. Поиски идеальной формы для самого совершенного произведения искусства — для драмы — неизбежно должны были после Шекспира снова привести их к еще более глубокому изучению античной трагедии. О том, почему их предположение найти здесь ответ было ошибочным, говорилось выше, однако мы видим, как этот более чем сомнительный путь привел их к неожиданно новому впечатлению, которое произвели на них благородные произведения оперного жанра, но и он в свою очередь представляется в высшей степени проблематичным. Здесь заслуживают внимания главным образом два обстоятельства, а именно: то, что благородная музыка какого-нибудь большого музыканта придавала исполнению слабого драматического актера очарование волшебства, недоступное самым гениальным мимическим актерам в драматическом спектакле; и в то же время настоящий драматический талант может так облагородить совершенно нестоящую музыку, что нас покоряет сила исполнения, недоступная этому же таланту в драматическом спектакле. Отсюда неопровержимо явствует, что объяснить это можно только могуществом музыки. Но это правомерно сказать лишь о музыке вообще, и при этом остается непонятным, как можно было бы подступиться к странной и ничтожной структуре ее форм, если бы драматический поэт самым недостойным образом к ней не приспособился. В качестве примера мы приводили Шекспира, для того чтобы уяснить себе природу и особенно приемы настоящего драматурга. И как бы ни было здесь почти все таинственно, мы все же установили, что именно мимическое искусство было тем самым, с чем поэт сливался в единое целое; и нам остается сделать вывод, что мимическое искусство подобно жизненной росе, в которую должен окунуться поэтический замысел, чтобы, как будто после волшебного превращения, стать зеркалом жизни. Как только любое действие, даже самое обычное жизненное событие (которое показывает нам не только Шекспир, но и любой настоящий театральный писатель), воспроизведено мимической игрой, оно предстает перед нами в преображенном свете, наделенное объективным воздействием отражения; это отражение, как выясняется из наших дальнейших наблюдений в свою очередь обнаруживается в преображенной чистоте высшего мастерства, едва лишь его напоили из волшебного колодезя музыки, словно перед нами еще только чистая форма, свободная от какой бы то ни было реалистической материальности.