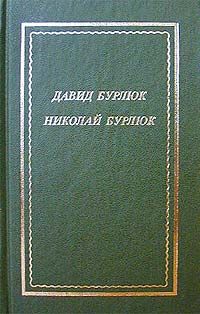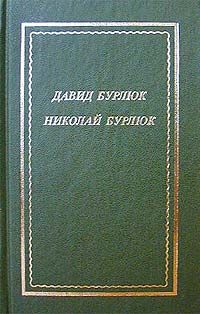где происходят события «Le Futur».
Существенное воздействие скорости на современную городскую жизнь оказалось еще более заметным в стихах и теоретических текстах Шершеневича, еще одного поэта из «Мезонина поэзии». Несмотря на то что Шершеневич выражал глубоко укоренившееся беспокойство по поводу жизни в современном мегаполисе, он быстро превратился в одного из самых яростных защитников скорости в русском футуризме. После короткого символистского периода Шершеневич с энтузиазмом начал поддерживать итальянский футуризм, идя по космополитическим стопам популярных русских эгофутуристов, в первую очередь Северянина, который рассматривал город и его скорость через стилизованную призму салона и высшего сословия городского общества [76]. К 1913 году Шершеневич стал воинственным лидером «Мезонина поэзии», группы, которая сыграла заметную роль в развитии русского футуризма, хотя и не имела такой, как у бунтарей-кубофутуристов, славы (пусть даже эта последняя и была дурной). В своих зрелых футуристических стихах, написанных для «Мезонина поэзии», Шершеневич, как и Гуро и Большаков, придерживался осторожного взгляда на быстро меняющийся урбанистический мир. Шершеневич писал в своей статье 1914 года «Пунктир футуризма»: «Если отыскивать наиболее яркую черту современности, то несомненно, что этот титул принадлежит движению. <…> Красотой быстроты пропитан весь сегодняшний день, от фабрики до хвоста собаки, которую через миг раздавит трам» (цит. по: [Шершеневич 2000: 17–18]). Для Шершеневича быстрота порождает красоту, но также и жестокое разрушение, а «быстрота» фабрик и трамваев может одновременно вдохновлять и «раздавливать».
Хотя Шершневич характеризовал «быструю» городскую среду как жестокую, он также утверждал, что исследование скорости города представляет собой одну из фундаментальных задач футуристической поэзии. В его теоретическом трактате «Зеленая улица» (1916) утверждалось, что темп города требует соответствующей поэзии: «Хаос улицы, движение города, ревы вокзалов и гаваней, всю полнь и быстрь современной жизни, душа души XX в., нельзя передать иначе, как внутренним движением стиха» [Шершеневич 1916:37]. Для Шершеневича «внутреннее движение» предполагало ускоренные поэтические темпы, неточную рифму, диссонанс, современный язык и множество других приемов, позволяющих воспроизвести хаотичный ритм жизни современного мегаполиса.
Приемы, лежащие в основе «внутреннего динамизма» Шершеневича, наглядно продемонстрированы в первых восьми строках его стихотворения 1913 года «Вы бежали испуганно, уронив вуалетку…», где подробно описывается состояние женщины (адресата стихотворения), отчаянно убегающей от городской толпы преследователей, охваченных сексуальной агрессией:
Вы бежали испуганно, уронив вуалетку,
А за Вами, с гиканьем и дико крича,
Мчалась толпа по темному проспекту,
И их вздохи скользили по Вашим плечам.
Бросались под ноги фоксы и таксы,
Вы откидывались, отгибая перо,
Отмахивались от исступленной ласки,
Как от укусов июньских комаров.
[Шершеневич 2000: 56]
Глаголы стихотворения: «бежали», «мчалась», «скользили», «бросались», «отмахивались» – говорят о том, что город и его обитатели движутся в угрожающе быстром темпе. Отражая непристойные нападки необузданной толпы, героиня Шершеневича «испуганно» бежит по «темным», зловещим проспектам. Даже животные – «фоксы и таксы» – бегут рядом, словно сговорившись помешать бегству женщины от «исступленной ласки» городских масс, которых поэт сравнивает с кусающимися комарами. Эта сцена позволяет Шершеневичу перепрыгивать, словно кинорежиссеру, от одного кинетического момента к другому, создавая ту внутреннюю скорость, которую он пропагандировал в своих теоретических работах. Это стихотворение, изображая суматошный, жестокий дух города через непрерывный поток ярких образов, раскрывает урбанистический мир, столь же опасный, подавляющий и сексуализированный, сколь и динамичный [77].
Современный мегаполис и его дезориентирующе быстрый темп приобрели важнейшее значение в кубофутуристических стихах Маяковского, который придумал собственный способ поэтического воспроизведения ускоряющейся городской среды. Как Маяковский заметил в 1913 году, городская жизнь включает в себя не только эффективный, механизированный темп четко организованного рабочего дня, но также и ритм, способствующий беспрецедентной эстетической свободе:
Город, напоив машины тысячами лошадиных сил, впервые дал возможность удовлетворить материальные потребности мира в какие-нибудь 6–7 часов ежедневного труда, а интенсивность, напряженность современной жизни вызвали громадную необходимость в свободной игре познавательных способностей, каковой является искусство [Маяковский 1955, 1: 275–276] [78].
По мнению Маяковского, в современном городе существуют два противоположных проявления скорости: «лошадиная сила», питающая человеческий труд, и «интенсивность», динамическая «напряженность» урбанистического существования, имеющая решающее значение для познавательной «свободной игры» искусства. В первых футуристических стихах Маяковского эта свободная игра влекла за собой быстрые семантические сдвиги от одного образа к другому, а также лингвистическую сложность, которая последовательно воспроизводила преобразования, осуществляемые скоростью в современной городской жизни.
В «Ночи», одном из стихотворений Маяковского из «Пощечины общественному вкусу», лихорадочная энергия возникает среди замысловатого переплетения «сдвинутых» урбанистических образов. Маяковский показывает естественный переход от дневного света к сумеркам в динамичных, персонифицированных терминах. В первых строках стихотворения городской пейзаж, антропоморфизированный и активный, словно участвует в оживленной карточной игре, а яркие цвета и образы – то, что один критик назвал «урбанистическим калейдоскопом цвета и формы», – создают впечатление вихря суматохи [Brown 1973: 73]:
Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.
[Маяковский 1955, 1: 33]
Каждая строчка отмечает очередную стадию наступления темноты, – начиная с багрового сумеречного неба и заканчивая ночной чернотой, в которую вливается электрический свет [79]. Город сливается с ночью, пока антропоморфизированные «черные ладони» – потемневшие стекла «сбежавшихся окон» – отражают «желтые карты» уличных фонарей. Эти «сбежавшиеся» окна мы видим взглядом прохожего, мечущимся по витринам, которые словно уносятся в ночь.
В «Ночи» зримое преображение городского пейзажа скоростью передано с помощью сложного языка и семантики. Быстро перемещаясь от одной системы координат к другой, Маяковский заставляет читателей приспосабливаться к сложным, часто сбивающим с толку образам и игре слов – так же, как их глаза могли бы привыкать к ландшафту, через который они быстро продвигаются. Лингвистические и семантические сложности, например, пронизывают вторую строфу, где бульвары и площадь, наделенные возможностью действовать, участвуют в стремительном течении городской жизни:
Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как желтые раны,
огни обручали браслетами ноги.
И снова сдвиг ракурсов, яркие цвета и быстро сменяющие друг друга образы оказываются существенными для изображения города. С точки зрения бульваров и площади здания кажутся задрапированными «синими тогами», и мимо этих зданий мчатся горожане – «бегущие»; на ногах последних появляются желтые, похожие на браслеты обручальные кольца, создаваемые светом уличных фонарей, которые словно препятствуют городскому движению. Хотя Маяковский использует обычный размер (четырехстопный амфибрахий) и простую, чередующуюся схему рифм, стихотворение,