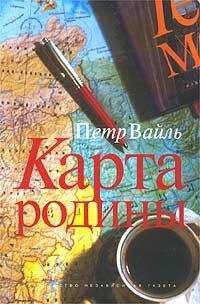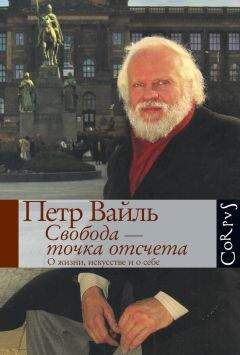Ознакомительная версия.
От всего этого и уходили из монастыря — в скиты, а оттуда еще дальше — в отшельнические лесные норы.
В иерархии святости иночество на Анзере считалось выше простого монашества на Соловках. Тот же расклад сохранил лагерь: здесь было отделение для низших категорий зэков-сифилитиков, «мамок», священников, неработающих сектантов. Анзерское мученичество признавалось высшей ступенью соловецкого.
Идем по Анзеру лесом вдоль вдающейся в сушу Троицкой губы, спускаемся попить к источнику с деревянным крестом, поставленным 24 октября 1917 года, — видимо, последний крест, водруженный в той России, которая так стремительно развалилась после этой даты. За Свято-Троицким скитом по широкой тропе — к Голгофе. Не собьешься: дорога одна, к тому же на указателе стрелка и надпись «Г-фа». Профанизация сакрального, говоря коряво. Приручение высот — лингвистический альпинизм. В лагерные времена это получалось проще. Среди лесных командировок (пунктов вырубки леса) — Исаково, Савватьево, Ново-Сосновая, Амбарчик, Овсянка, Красное, Щучье значилась командировка Голгофа. Г-фа. Кстати, какую такую ценность валили на здешних лесоповалах? Брокгауз и Ефрон указывают: «Произрастающий на о-ве лес годен лишь на дрова; строевой лес привозится с материка». Слой земли на соловецких камнях и песке в среднем двадцать пять сантиметров порядочным деревьям не за что зацепиться. Еще горше звучал бы тонкий голос Ефима Лагутина: «Валим мы и елку и сосну. Колем, пилим и страдаем…».
На командировке Голгофа в церковку у подножия горы набивали до двухсот человек в три яруса. На вершине руины Распятской церкви, обломки деревянной гостиницы. На склоне — березовый крест: не крест из березы, а береза в виде креста. Какой-то сведущий в ботанике зэк умело подрезал ветки молодого деревца, чтобы через годы вырос памятник. Других монументов — нет.
С Голгофы — невыразимая панорама холмов, озер, леса, моря вдали. См. взгляд Горького с Секирки. Опять чертова мешанина — она что ли, и есть главный памятник человеческому существу.
Оптинский старец Нектарий пишет о том, как надо благодарить Бога: «Вышел преп. Елеазар как-то ночью на крыльцо свой кельи, глянул на красоту и безмолвие окружающей Анзерский скит природы, озаренный дивным светом северного сияния, умилился до слез, и вырвался у него из растворенного Божественной любовью сердца молитвенный вздох: „О Господи, что за красота создания твоего. И чем мне и как, червю презренному, благодарить Тебя за все Твои великие и богатые ко мне милости?“ И от силы молитвенного вздоха преподобного разверзлись небеса и духовному его взору явились сонмы светоносных сил бесплотных и пели они великое славословие ангельское…» Действительно, высокая поэзия, но не выше, чем в стихотворении Николая Заболоцкого «Где-то в поле возле Магадана». Нельзя ли предположить, что Заболоцкий написал свои строки как фантазию на тему этих? Ведь он о том же, но по-другому — правдивее, точнее, ужаснее:
Дивная мистерия вселенной
Шла в театре северных светил,
Но огонь ее проникновенный
До людей уже не доходил.
Вкруг людей посвистывала вьюга,
Заметая мерзлые пеньки.
И на них, не глядя друг на друга,
Замерзая, сели старики.
… Не нагонит больше их охрана,
Не настигнет лагерный конвой,
Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, став над головой.
Природа, сказано, равнодушна. Человек — нет, что гораздо хуже. Какова перекличка пеньков у Заболоцкого и соловецкого «Гоп со смыком»: на них ставят убивать и садятся умирать.
Обратная дорога с Голгофы — к Капорской губе: катер перешел к южному берегу Анзера и ждет там, чтобы возвращаться другим путем, вокруг Муксалмских островов. Долго идем вдоль белой воды по крупной гальке, покрытой половыми тряпками высохших на солнце водорослей. Наряду с заготовкой дров из топляка, прибитого к берегу, сбор йодсодержащих водорослей считался в лагере легкой работой — по сравнению с лесоповалом, корчеванием пней, осушением болот. Василий Розанов, упрекая русских писателей в том, что не научили народ работать, прозорливо указал в октябре 1917 года: «Мы не умеем из морских трав извлекать йоду». Научились как раз в Соловецком лагере, где этим под конвоем занимался друг Розанова — Павел Флоренский. Йод — из фукуса и ламинарии, из анфельции — агар и т. д. Из поселкового спецмагазина туристы выходят с полными пакетами эликсиров» лосьонов, кремов. Фитомаска с хлорофиллом «улучшает состояние проблемной кожи, создает комфортное состояние». Для чего-то пригодился СЛОН.
Водоросли с нами вместе Топчет попросившийся на катер молодой монах-паломник, он тоже совершит восхождение на Голгофу и до крайности возбужден. Бледно голубые глаза сияют, рыжая бородка трясется. Путано и горячо пересказывает услышанное в монастыре: как на Анзер приезжали профессора из Москвы и из-за границы тоже, все обмерили, сказали, что анзерская Голгофа — точь-в-точь иерусалимская. «Вот чудо-то!» В действительности сходства не больше, чем у подлинного Соловецкого монастыря с тем, который на 500-рублевой купюре с расстриженными соборами, додумались же запечатлеть. Монаха не хочется разочаровывать, да и боязно рассердить: Серафим уверовал и постригся, еле выжив после перелома основания черепа, а до того был призером Украины по кикбоксингу.
«Здесь все имеет значение, каждая горочка, каждое имя», — продолжает
Серафим. Вот это верно. В самом имени архипелага русское ухо охотно различает и певчую птицу, и одиночное пение, и масть в тон моря, а кто пообразованней воодушевленно выводит на бумажке латинскими буквами
Solovki — Salvatino. На деле угрофинское название удручающе тавтологично: Соловецкие острова — Островные острова. Природа равнодушна, это человек придумал: командировка Голгофа.
Земля безгрешна — не потому, что без греха, а оттого, что вне. Но соловецкое мифотворчество длится, отсекая что не нужно, что мифу мешает.
Не нужен — лагерь.
Олег Волков, умерший в 96-м в возрасте 96-ти, никогда на Соловки не возвращался: «Этот остров можно посещать, лишь совершая паломничество. Как посещают святыню или памятник скорбных событий, национальных тяжких дат. Как Освенцим или Бухенвальд».
Монах Серафим прав: здесь все имеет значение. Петр Первый поставил тут столб с указанием дистанций до разных городов: Рима, Лондона, Берлина…
До Венеции — 3900 верст, столько же до Астрахани. Столб еще разглядывали зэки 20-х. Сейчас на пустыре косо стоит догнивающий знак с расстояниями до столиц союзных республик. Нужно мне знать, что до Риги 1350 км ?
Нужно, конечно, нужно, здесь все важно, здесь ходишь по живому, задавая вопросы, понимаешь, что ответов нет, но все задавая и задавая.
МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК КОРОТКОГО ВЕКА
Помпезный и трагический fin de siecle наступил позже 1900 года — с мировой войной и революцией, пытавшейся стать мировой. Закончился век, знаменующий собой fin de millenium, не менее эпохально и примерно на столько же раньше 2000 года — идейным переделом мира. XX столетие оказалось короче календарного предписания, совпав с годами советской власти, в эти годы уложившись. Эксперимент России не отнимает исторического значения у теории относительности, Генри Форда, латиноамериканского романа, японского экономического чуда, освобождения Африки, изобретения ксерографии. Просто действия разыгрывались на определенном фоне.
Россия имела отношение и к созданию атомной бомбы, и к профсоюзам на фордовских заводах, и к революциям в Южной Америке, и к японской послевоенной психологии, и к краху колониализма, и к политической роли копировальных машин. Задником драматических коллизий была Россия. Театральные метафоры, с древности употребительные для описания общества, ведут дальше. Черчилль, констатируя в 46-м году начало холодной войны и объявляя о «железном занавесе», стал невольным плагиатором и опоздал с образом на двадцать девять лет. Василий Розанов написал вовремя: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес». Тогда и начался XX век, который закончился в 91-м.
Чем пристальнее вглядываешься в российское укороченное столетие, тем больше изумляют именно торчащие концы, эти fin'ы куцего siecl'а. Речь — о легкости распада. Со всеми поправками на сопротивление, исторически все произошло неправдоподобно быстро. Речь — о стремительном развале систем, вроде так прочно стоявших на своих, может, и глиняных, но толстых, как у Собакевича, ногах.
Невероятно до смешного:
Был целый мир — и нет его.
Вдруг — ни похода ледяного,
Ни капитана Иванова,
Ну абсолютно ничего!
В стихах Георгия Иванова все точно: и истерический взвизг последней строки, и капитан — двойник автора, и особенно слово «вдруг». Ивановские строки написаны через много лет после октября 17-го, когда вокруг, действительно, не оставалось «абсолютно ничего» из прежнего. Кругом — сплошная Франция. Однако отчаянные строки не объяснить ностальгией стареющего поэта. Его «вдруг» подтверждается обильно: и «Окаянными днями» Бунина, и «Десятью днями» Рида, и мемуарами Коковцова, и дневниками Чуковского — самыми непохожими людьми. Тем же «Апокалипсисом наших дней»: «Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три… Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей… Что же осталось-то? Странным образом — буквально ничего». Кажется, что Иванов просто зарифмовал розановскую прозу. Кажется, что и совсем другой поэт, с другой стороны, сделал то же:
Ознакомительная версия.