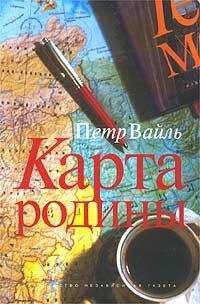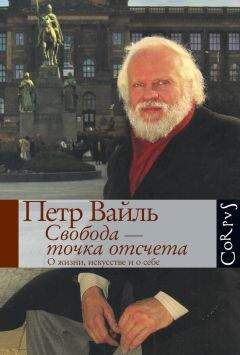Ознакомительная версия.
Вот если умерить амбиции и снизить тон, то можно прочесть в русской классике повесть о частной жизни, автономной личности, чей путь — не от пропасти к вершине, а от печки к перине. Можно вспомнить, что Пушкин воспел щей горшок на семейном очаге и даже отдал за это жизнь; что быт Простаковых пережил идеи Стародума; что консерватор Кирсанов одолел революционера Базарова; что Лермонтов, даже на дорогу выходивший один, воспел гумно и резные ставни; что к идеалу Пульхерии Ивановны только в эпилоге приблизилась Наташа Ростова; что Штольцу не встать вровень с никогда не встающим с дивана Обломовым; что у бездомного персонажа Достоевского — живущего ради смерти Кириллова — круглые сутки кипел символ домашнего уюта, родственник пушкинского горшка, самовар. Все это в русской литературе есть, но за скоростями широчайших духовных амплитуд незаметны неторопливые шажки от плиты к столу. Сердце бьется так, что звона посуды не слышно. Чтобы понравиться себе и читателю, словесность прихорашивается, глядясь не в самовар, а в глобус. Коль скоро каждая книга есть попытка Книги, то и предмет ее не человек, а Человечество. Неудивительно, что человек в таком масштабе — маленький. Хотя Маленький Человек — в виде компенсации можно наделить его большими буквами — не русское изобретение (его истоки обнаруживаются еще у греков и римлян), но таковым он воспринимается и в конечном счете является. Аналогичный случай, кстати, с самоваром.
Русская литература много потрудилась во славу Маленького Человека. Достоевский сетовал: «Напишите им самое поэтическое произведение; они его отложат и возьмут то, где описано, что кого-нибудь секут». Но он и создал Девушкина, Мармеладова, Снегирева, всех этих униженных, оскорбленных и пьяненьких, которых беспрестанно секут и в которых он вложил столько же поэзии, сколько и сострадания.
Константин Леонтьев писал: «Тот, кто старается уверить себя и других, что все неморальное — непрекрасно, и наоборот, конечно, может принести нередко отдельным лицам педагогическую пользу, но едва ли польза эта может быть глубока и широка, ибо поверивший ему вдруг вспомнит, что Юлий Цезарь был гораздо безнравственнее Акакия Акакиевича». Проблему можно пересказать так: неужто Маленький Человек только тем и хорош, что он маленький?
В том-то и дело, что русская литература внесла своего излюбленного героя в систему нравственных оценок, где Акакий Акакиевич именно выше Юлия Цезаря, и лишь потому, что ему не дали стать Цезарем внешние силы, среда. Словесность, следуя романтической традиции (почему-то названной в приложении к социально ничтожному герою реализмом), придумала Маленькому Человеку несбывшееся великое будущее.
Белинский печалился: «Горе маленькому человеку, хотя бы этот маленький человек готовился быть великим человеком!…» Боль и пафос, отраженные в курсивах, разделили последующие поколения. Житейски это очень объяснимо. У огромного количества людей не только юные, но зрелые годы проходят в ожидании перелома. Почти неважно, какого именно, лишь бы резко меняющего жизнь: будь то повышение по службе или увольнение, выигрыш в лотерею, далекий отъезд, внезапная небанальная болезнь, прорыв потаенного таланта, смерть, в конце концов, — тоже ведь крутая перемена. Комплекс ожидания — характерная черта Маленького Человека, такая понятная и близкая. Так что русская словесность не могла сделать лучшего подарка своему читателю, чем разъяснить, что он, Акакий Акакиевич, вообще-то, — Юлий Цезарь. И возможно, когда-нибудь это станет ясно всем. Литература чутко уловила общий нерв: заурядную драму неслучившейся жизни. Другое дело, что Маленький Человек был вознесен не столько сам по себе, сколько как часть страдающего человечества. Инструментом тут служил не микроскоп, а телескоп. На бешеных духовных скоростях и громадных душевных дистанциях человек не мог не выглядеть маленьким. Предыдущий fin de siecle произвел кардинальные изменения в концепции героя. Культура переводить привычные понятия и категории на язык XX века, и тут выяснилось: Маленький Человек великой литературы настолько мал, что дальнейшему уменьшению не подлежит. У малых явлений это своего рода гордость, как неделимость частиц. Изменения могли идти только в сторону увеличения. Чем и занялись западные последователи русской традиции. Из Маленького Человека вышли разросшиеся до глобальных размеров и вселенских обобщений герои Кафки, Беккета, Камю. Сделавший прыжок от еще «русских» персонажей «Дублинцев» Джойс применил, наконец, микроскоп, выведя на дублинские улицы своего эпического Блума. Пойдя дальше, обнаружим потомков русского героя в поп-арте, который использовал не увеличение, а размножение, не гиперболу, а повтор. На родине же Маленький Человек претерпел гораздо более радикальную метаморфозу. Он вообще ушел из культуры. В жизнь.
В жизни Маленький Человек, разумеется, был всегда, представляя там подавляющее большинство и в силу своих размеров существуя практически незамеченно. На вопрос, как вышло, что грандиозные перемены были приняты с такой легкостью, ответа можно искать именно в человеческом масштабе: маленький — непременно мелкий. Он уже был той «подробностью», той «частностью», до которых «рассыпалась» Россия. К тому времени в русской словесности Маленького Человека не осталось. Гумилев лишь по инерции уходящего 31есГа находил «Одиссеев во мгле пароходных контор». Одиссей оказался, во-первых, рекламным агентом, а в-главных — совсем в другой стране. Советский же период русской литературы и вовсе не знал такого героя.
Внешне схожий персонаж возник у Зощенко, но его мелкость утрирована — ничего общего с достойной мизерабельностью станционного смотрителя и титулярного советника. Тем более не похожи на них ни святой нового канона Корчагин, ни байронический скиталец Мелехов, ни новобиблейские персонажи Бабеля, ни мифологические гиганты Платонова, ни чудо-богатыри советского классицизма. Ни патетические физики и лирики 60-х, ни правдоносцы деревенщиков. Ни сильные люди Солженицына, ни гибкие люди Войновича, ни стойкие люди Искандера. Ни безумцы и маргиналы катакомб во главе с алкашом и эстетом Веничкой. Были всякие, но маленьких — не было.
В российском XX веке даже собака — большой человек: Верный Руслан значимее и сознательнее Каштанки, не говоря о Муму. Почти все советские герои — официальные и неофициальные — в той или иной мере Верные Русланы. Им типологически присуще то, что описывается строчкой «Раньше думай о Родине, а потом о себе»: общественное важнее личного. Маленький Человек брался с идеологической поверхности, умер в литературе. (В фольклоре, ближе стоящем к бытию, мельчал анекдот: вождь Ленин — герой Чапаев — персонаж Штирлиц — безымянный чукча — абстрактный и черный анекдоты без героя вовсе).
В жизни Маленький Человек тоже мельчал. Но продолжал лелеять прежний миф о себе.
Новая формула старого мифа звучала так: «Чем хуже строй, тем лучше люди» — многолетнее утешение советского человека.
Концепция романтическая, с вариациями вроде: только в бедных хижинах живет искреннее чувство. Основана на механизме компенсации порождающем банальности из числа утешительных заблуждений: если красива, значит глупа; если богат, значит зол; если нет колбасы, значит есть духовность; если дурны правители, значит прекрасен народ.
Стереотипы хороши, когда подтверждаются: на Килиманджаро вечные снега, но доктор Астров прав, в Африке — жарища. Однако плохое правительство не способствует улучшению человека. Ровно так же хорошее правительство не портит гражданина. В его силах лишь создать условия, в которых присущее человеку свинство может проявиться в большей или в меньшей степени. Если где-то что-то плохо лежит, это толкает к воровству, но еще больше — если у тебя самого и хорошо-то не лежит ничего.
Вот это «ничего не лежит», отрицание частной жизни и собственности вело не только к выносу кожзаменителя через брешь в заборе, но и дальше. Нечем заткнуть брешь в пронизанной информацией и оттого катастрофической повседневности человека XX столетия — разрыв между религиозным представлением о взаимосвязи явлений и эмпирикой жизни, убеждающей в хаотичности, случайности и необязательности происходящего вокруг.
В нормальных условиях разрыв восполняется частной жизнью, ее убедительной разумностью и необременительным ритмом. На это работают и логичные экономические законы: лучше трудишься — больше получаешь и удобнее живешь. Священник или психиатр тоже помогают упорядочить эмоциональный и нравственный опыт. Главный же стержень — «свое», прежде всего «свое» материальное: собственность. Тот стержень, на который можно накручивать уверенность в будущем, а значит, и в настоящем.
Советский Маленький Человек всех таких опор был лишен. Идея собственности даже не чужда, а просто незнакома. Так эмигрантские дети плохо говорят по-русски не только по безразличию родителей, но и оттого, что целый пласт понятий входит в их сознание на ином языке.
Ознакомительная версия.