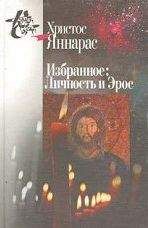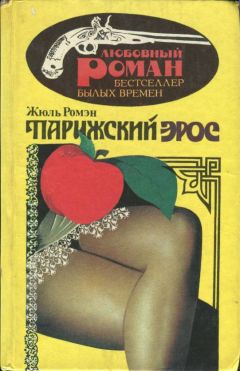Однако самих коронованных особ на картине нет. Или они есть? На полотне изображено множество людей, включая самого Веласкеса, но, судя по всему, среди них нет ни короля, ни королевы, однако все пристально смотрят на кого-то, кто остался за рамой картины. На кого же? Встретившись со взглядами этих людей, мы сперва думаем: на нас. Потом замечаем отражения в зеркале в глубине комнаты. Кто там отражается? Мы? Нет. Король и королева Испании. Так где же они, получается, находятся? А именно там, где стоим мы, созерцая картину и видя их отражения в зеркале. А мы тогда где? И, раз уж на то пошло, кто мы?
Неважно, кто мы, раз мы не король и королева и стоим мы как раз в слепой зоне. Мишель Фуко проанализировал картину Веласкеса и ее слепую зону в исследовании об археологии человеческого познания, «Слова и вещи», и назвал ее «убежищем, в котором наш взгляд скрывается от нас самих в тот момент, когда мы смотрим». Мы не видим этого места, точно так же, как не можем подумать мысль или пожелать желание, не прибегая к хитрости. В картине «Менины» эта уловка проступает в зеркале в глубине комнаты. В терминологии Фуко это называется «метатезой видимости», потому что вокруг нее картина нарочно образует пустое пространство. «Линии, не пересекающие глубину картины, неполны, им всем недостает части их траектории. Этот пробел обусловлен отсутствием короля – отсутствием, являющимся приемом художника» [50].
Уловка Веласкеса осуществляет триангуляцию нашего восприятия: мы словно бы видим самих себя, смотрящих на картину. То есть он скомпоновал картину так, что когда мы ее созерцаем, некое изначальное подозрение постепенно переходит в уверенность, а именно – что пустота, отраженная в зеркале, принадлежит не королю Филипу IV и королеве Марианне, но нам самим. Стоя, точно дублеры, на месте, где должны быть король и королева, мы с легким разочарованием понимаем, что лица, отразившиеся в зеркале, не принадлежат нам, и почти что видим (если, конечно, правильный угол зрения не ускользнет) точку, где мы исчезаем в самих себя, чтобы продолжать смотреть. Точку, расположенную в разрыве между нами и ими. Попытки сфокусироваться на этой точке приводят к головокружению, однако в то же самое время присутствует особенный, острый восторг. Мы ужасно хотим увидеть эту точку, хотя не можем разорваться на части. Но зачем?
В этой точке нет неподвижности. Ее компоненты раздваиваются, расходятся всякий раз, когда мы пытаемся сфокусироваться на них, словно внутренние континенты разума пытаются нагромоздиться вкривь и вкось. Это не та точка, куда можно смотреть, чтобы спокойно стать единым изображением с королем и королевой, единым существительным. Эта точка – глагол. Всякий раз, когда мы на нее смотрим, она действует. Как?
Давайте иметь в виду эти вопросы, рассматривая еще одну точку ландшафта человеческой мысли, точку, тоже являющуюся глаголом; более того, из тех, кому присуща треугольная структура, которая может преследовать, делиться надвое, искривляться и приводить нас в восторг всякий раз, когда она начинает действовать. Давайте рассмотрим точку вербального действия под названием «метафора».
«На предметы безымянные… переносить [metaphora] названия… от предметов родственных или схожих» [51] – вот как Аристотель описывает функции метафоры (Rh., III, 2, 1405a34). В текущей теории этот мыслительный процесс лучше всего рассматривать как взаимодействие субъекта и предиката метафорического предложения. Метафорический смысл производится всем предложением и действует посредством того, что один критик назвал «семантической неуместностью» (Cohen, 1966), а именно нарушением законов уместности и правильности, управляющих аттрибуцией предикатов при обычном использовании языка. Нарушение приводит к появлению новой уместности или конгруэнции, то есть метафорического значения, путем разрушения обычного или буквального значения. Как же появляется новое значение? В разуме происходит изменение или смещение дистанции, которое Аристотель назвал epiphora (Poet., 21, 1457b7) – сведение вместе двух различных по природе вещей выявляет их сходство. Новаторство метафоры заключается в изменении дистанции – дальней на ближнюю, и это совершается воображением. Виртуозный акт воображения сводит вещи воедино, видит их инконгруэнтность, а затем также новую конгруэнтность, в то же самое время продолжая распознавать увиденную ранее инконгруэнтность через новую конгруэнтность. Оба – и обычный, буквальный смысл, и новообретенный, – равным образом присутствуют в метафоре; разом и оригинальная, описательная коннотация, и заново обретенная находятся в напряжении – такой у метафоры взгляд на мир.
Таким образом, это умственное действие созидается обостренным и не находящим исхода напряжением, которое требует от разума «стереоскопического зрения», как сформулировал Стэнфорд (Stanford, 1960), или же расщепленной референции по Якобсону, а именно способности одновременно держать в равновесии две точки зрения. Поль Рикёр зовет такое состояние умственного напряжения «состоянием войны, при котором разум еще не достиг понятийного мира, но застрял между отдаленностью и приближенностью, между сходством и различием». Как пишет Рикёр:
Мы с Гадамером можем говорить о фундаментальной метафоричности мышления в той степени, в какой фигура речи, называемая «метафора», позволяет нам взглянуть на общую процедуру образования концептов. Все потому, что при метафорическом процессе движение к родовому понятию останавливается сопротивлением отдаленности и некоторым образом перехватывается риторической фигурой.
(Ricœur, 1978, 149)
Акт остановки и перехвата, расщепляющий разум и погружающий его в состояние конфликта, и есть акт, называемый «метафора». Сравним его с тем, что мы увидели в «Менинах». В самой сути акта, именуемого «метафорой», разум тянется к определению, переносит названия «на предметы безымянные», по Аристотелю (Rh., III, 2, 1405a34). В свою очередь хитрость, примененная Веласкесом, побуждает нас дать имя объекту, на который смотрят глаза всех, кто изображен на картине. На мгновение нам кажется, что все взоры устремлены на нас. А потом мы видим отражения в зеркале. Наше побуждение дать имена этим лицам спотыкается о различие между двумя сущностями (мы сами и король с королевой), притязающими на эти имена. Остановка происходит рывком, из-за которого зрение искажается, наше сознание расщепляется надвое и этот разрыв непреодолим, как бы часто мы ни возвращались к картине: всякий раз, когда мы смотрим на нее, восторженный миг самоузнавания пресекается смутным отражением монарших особ в зеркале. Аристотель улавливает этот момент перехвата, когда разум будто бы говорит себе: «Как это верно! А я ошибался». Он зовет это «чем-то парадоксальным» (ti paradoxon), и, по его рассуждению, в этом одна из неотъемлемых прелестей метафоры (Rh., III, 2, 1412a6).
Эрос также содержит нечто парадоксальное в самой сути своей силы, в моменте, когда сладость сменяется горечью. Происходит смещение дистанции, и дальнее, отсутствующее, иное становится близким. «Изваяний прекрасных ненавистно прельщенье»: Менелаю, который бродит по